Аграрная исстория Древнего мира - [3]
Именно такого рода «сверхтеоретичности» и противополагал М. Вебер свой вариант социологии, которую он называл «эмпирической» вопреки ее ярко выраженной теоретичности, каковая — опять-таки не в духе нашей «постмодерновой» эпохи — не очень-то торопилась выставить напоказ свою (уже тогда порядком «фрейдизированную») наготу. Язык фактов — прежде всего исторических, то есть «культурно нагруженных» — явно был для него предпочтительнее туманных намеков «девственно чистой теории». Вот почему М. Вебер остается «эмпириком» даже тогда, когда он работаете, казалось бы, «сугубо теоретическим» (либо «культурно нагруженным») материалом, находя в нем такие аспекты, которые можно, что называется «попробовать на-ощупь» или «на вкус». И в то же время остается подлинным теоретиком даже тогда, когда оперирует вполне конкретной «эмпирией» предстающей как «непосредственная данность», поскольку она берется в таких — на первый взгляд, неожиданных — ракурсах, которые обнажают ее (этой «данности») сугубо интеллектуальный «под»- и «за»-текст.
Однако именно в такой, можно сказать «кентаврической», двузначности и двуединости, позволяющей объединить «чисто эмпирический» и «сугубо теоретический» аспекты социологии, изначально предстает в веберовских исследованиях действительно человеческая, то есть историческая реальность. Реальность, сотканная из осмысленых, то есть исполненных смысла, смысловым образом ориентированных, человеческих действий, совершаемых, что называется, «в здравом уме и трезвой памяти». Действий, фиксируемых эмпирически, но в то же самое время заключающих в себе нечто более-чем-эмпирическое. А именно — смысл, постижение которого необходимо предполагает подключение сверхэмпирической — интеллектуальной, «умопостигающей» — способности, сколь бы «автоматически» и «нерефлектированно» оно, это постижение, ни совершалось.
Непосредственное, изначально целостное восприятие этого двуединства человеческой природы, сказывающееся как в простейших, так и в сложнейших «социальных действиях» индивида и было глубинным источником исследовательского интереса и Вебера-историка, каким он предстает уже в самых ранних своих работах, и Вебера правоведа-экономиста, каким он очень быстро становится, и Вебера религиоведа-социолога, каким он заявил о себе в классической «Протестантской этике», и, наконец, Вебера правоведа и экономиста, социолога и культуролога, каким он обнаруживал себя во всех последующих трудах, включая и те, что представлены в предлагаемых книгах.
Уже сам перечень тех научных областей, на которые простирался исследовательский интерес М. Вебера, свидетельствовал далеко не только о его энциклопедической образованности, ставящей его в один ряд с мыслителями эпохи Ренессанса, но и об изначальной «синтетичности» его исследовательского подхода, которая в век углубляющейся научной профессионализации и специализации не могла найти для себя другой «крыши», кроме социологической. Ибо только в достаточно широких рамках уже состоявшейся, но еще не «устоявшейся» и не «отстоявшейся» социологии еще оставались дозволенными широкие «синтезы», которые могли позволить себе такие универсально мыслящие исследователи как М. Вебер или Э. Дюркгейм, унаследовавшие системосозидательскую устремленность от основоположников социологии XIX столетия.
Стоит только попытаться всерьез ввести итоговые теоретико-методологические размышления М. Вебера в универсально-исторический контекст предшествовавших им либо следовавших за ними исследований западноевропейского города, культур-философски углубленных эксурсов в аграрную историю Древнего мира, и, наконец, всеобщую историю хозяйства, как начинает проявляться действительный фундамент и реальный подтекст веберовской социологии, в свете которых она предстает не столько как отвлеченно «теоретическая», сколько как синтетическая[1] научная дисциплина. Отсюда и «неожиданность» М. Вебера, чья социология встает обновленной его животворным видением «большой» — всемирной — истории. Отсюда и актуальность «специальных исследований» М. Вебера — историка хозяйства и права — «полузабытых» именно потому, что мы все еще пытались (если пытались вообще) читать их с помощью довеберовской «оптики», обособляющей друг от друга названные выше дисциплины, — вопреки его постоянному стремлению перебросить мосты между ними.
Сегодня, когда социологи читают веберовские тексты, так сказать «с конца», «отталкиваясь» от «достигнутых результатов» (забывая мудрое предостережение Гегеля, говорившего, что «голый результат» есть не более чем «труп», оставивший позади себя животворную «тенденцию», изначальную движущую пружину), мы зачастую просто проскакиваем самое существенное в сравнительно-исторической социологии М. Вебера, к чему он вновь и вновь возвращался, но каждый раз, как говорится, «на новом витке спирали». А именно — его синтетическицелостное видение исторических реалий, которое именно в силу этой объемности и синтетичности представало одновременно и как социологическое. Ибо социология, в конце концов, есть не что иное, как постижение общественной реальности в ее целостности, в каковой и заключается социологическая «суть дела».
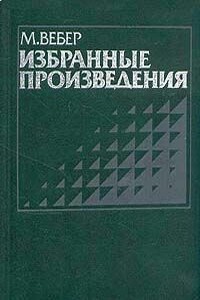
Книга представляет собой сборник работ по социологии одного из ведущих западных социологов XIX-XX вв. М. Вебера (1864-1920), оказавшего и оказывающего значительное влияние на её развитие. В работах, вошедших в сборник, нашли отражение его идеи о связи социологии и истории, о «понимающей социологии», концепция «идеальных типов» и т.д. М. Вебера нередко называют на Западе «великим буржуазным антиподом Карла Маркса» и даже «Марксом буржуазии». Рассчитана на социологов, философов, всех, интересующихся вопросами общественного развития.
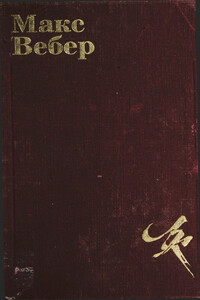
Книга представляет собой сборник работ одного из ведущих западных социологов М. Вебера (1864–1920). В издание вошли следующие работы: «Социология религии», «Введение» к «Хозяйственной этике мировых религий», «Город», «Социальные причины падения античной культуры», «Рациональные и социологическиеюснования музыки».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.