Аграрная исстория Древнего мира - [2]
Юрий Давыдов.
ВЕБЕРОВСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ИСТОРИИ
I
Чтение работ М. Вебера в сегодняшней России, совсем недавно пережившей нечто вроде собственного «веберовского ренессанса», не лишено своих специфических трудностей. В первую очередь они связаны с иллюзорным ощущением «понятности» целого ряда терминов, введенных в социологический оборот этим классиком социологии, однако нами полученных, что называется, из «вторых» и даже «третьих» рук, благодаря чему они приобрели своеобразный «брезжащий» смысл — результат диссонанса их многочисленных интерпретаций на Западе, где вебероведение вместе со всей западной социологией успело пережить ряд глубоких потрясений и кризисов, расколовших социологическое сообщество на несколько противоборствующих течений и групп, утративших общий язык.
Замысел западных провозвестников «веберовского ренессанса», стремившихся найти выход из этой кризисной ситуации, опираясь на аутентичное прочтение М. Вебера, не осуществился. И хотя в русле этого устремления были достигнуты в высшей степени плодотворные результаты — «Полное собрание» веберовских текстов, работа над которым близится к концу — основная (хоть и подспудная) цель не была достигнута: консолидации социологического сообщества, пусть не мирового, но хотя бы немецкого на почве современного веберианства не произошло. Что же тогда говорить о российском сообществе социологов, где «веберовский ренессанс» способствовал такому росту «известности» М. Вебера, которая оказалась обратно пропорциональной его «познанности». Едва ли не каждый социолог (а то и «политолог» — выходец из среды недавних «историков КПСС) считает своим профессиональным долгом лишний раз употребить какой-нибудь веберовский термин — «например, «харизма» (которому у нас явно повезло), хотя, результатом подобных ритуальных жестов, как правило, оказывается лишь его когнитивная девальвация.
В итоге мы имеем сегодня дело с тем, что, пользуясь емким солженицинским выражением можно было бы назвать социологической «образованщиной», способной скорее вызвать у молодежи привычный для нее негативизм по отношению если не к самому М. Веберу, то уж, во всяком случае к высоколобому веберианству, а у зрелого поколения — скепсис и растерянность перед лицом столь же необозримой, сколь и неприступной «веберианы», успешно наступающей с Запада, зато в «наших палестинах» способной породить лишь веберианствующих графоманов. Перед лицом этой удручающей угрозы трезвомыслящим социологам ничего не остается, кроме надежды на «социологическое просвещение», но уже не «первичное», о каком мечтал недавно умерший Н. Луман, и даже не «вторичное», с которым мы уже опоздали, а скорее «третичное», когда пришла пора задуматься о просвещенности наших самозваных просветителей.
Однако в нашем случае совсем не подходит чапаевское «Наплевать и забыть». В чем в чем, а в склонности к «напливизму» (даже в виде березовского «пофигизма») и к постоянной «забывчатости» нам, россиянам никак не откажешь. В нашем случае «социологическое просвещение» должно предполагать разумную избирательность — способность найти в захлестывающем нас потоке социологической литературы (и «литературщины») то, за что можно было бы ухватиться, чтобы всплыть на поверхность и оглядеться. И здесь — в противовес самоупоенно-шапкозакидательскому: «Мы успели сорок тысяч всяких книжек прочитать, // И узнали что почем и очень точно» — мы должны вспомнить об идее «медленного чтения», сформулированной Ф. Ницше-античником (вопреки Ницше-«дионисисту»). Речь идет о новом, — о медленном и медлительном прочтении, — веберовских текстов, в особенности тех, которые в нашей прежней спешке мы прежде не столько прочитывали, сколько проскакивали глазами в поисках чего-то «невероятного», чего при «скоростном» чтении мы, конечно же, не могли в них обнаружить, хотя оно, это «невероятное», буквально лежало на поверхности, ожидая лишь одного-единственного: неторопливого, а значит, внимательного и вдумчивого прочтения.
Речь идет в данном случае о необходимости медлительного — а, значит, совершенно нового — прочтения трех веберовских работ, казалось бы, далеких от современной социологической «Теории» (включая веберовскую), а потому раньше либо просто «просматривавшихся» нашими «методологами», либо прочитанных по методу «скоростного чтения» исключительно в интересах «Эрудиции», скорее поражающей воображение (причем, наповал) слушателей и почитателей, чем дающей пищу их уму, еще не научившемуся отличать насущность знаний, от необязательности «сведений». А именно о «Городе», «Аграрной истории Древнего мира» и курсе лекций по «Истории хозяйства», прочитанном М. Вебером незадолго до его безвременной кончины, настигшей его буквально в период «акме» — исполненного зрелой мудрости расцвета творческих сил.
Разумеется, помочь нам понять «неясности», встречающиеся в этих работах, должны комментаторские тексты, опубликованные в «Полном собрании» веберовских сочинений и других текстов М. Вебера, в которых, кстати сказать, присутствует глубоко родственный ему самому исследовательский пафос, стремление вникнуть в то, что есть (а не воображается «искушенным читателем»), присутствует в непосредственной данности исследуемого предмета, явлено непосредственно, а не скрывается в мистических глубинах «непостижного уму». Однако никакие комментарии веберовских текстов не могут заменить самого главного и решающего для их аутентичного восприятия. А именно читательского сотворчества, возможного лишь в самом «акте» медлительного чтения работ М. Вебера, особенно тех, что исполнены смиренной прозы исторических фактов, не написаны ни «шершавым языком плаката», ни туманным языком надуманной многозначительности, этой вчерашней плакатности, но только, что называется, «наоборот», остающейся таковой даже в том случае, когда она выдается за — совсем уж «чисто теоретическую» — социологию.
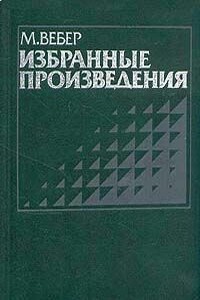
Книга представляет собой сборник работ по социологии одного из ведущих западных социологов XIX-XX вв. М. Вебера (1864-1920), оказавшего и оказывающего значительное влияние на её развитие. В работах, вошедших в сборник, нашли отражение его идеи о связи социологии и истории, о «понимающей социологии», концепция «идеальных типов» и т.д. М. Вебера нередко называют на Западе «великим буржуазным антиподом Карла Маркса» и даже «Марксом буржуазии». Рассчитана на социологов, философов, всех, интересующихся вопросами общественного развития.
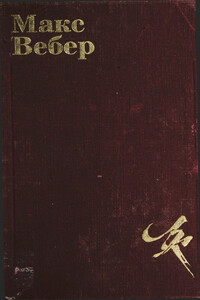
Книга представляет собой сборник работ одного из ведущих западных социологов М. Вебера (1864–1920). В издание вошли следующие работы: «Социология религии», «Введение» к «Хозяйственной этике мировых религий», «Город», «Социальные причины падения античной культуры», «Рациональные и социологическиеюснования музыки».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.