Агония и возрождение романтизма - [13]
С начала того же 1834 года в надеждинском «Телескопе» печаталась повесть В. Андросова «Случай, который может повториться» (отчасти примыкающая к жанру Kunstnovellen). Герой, поклонник искусств и мечтатель Александр Иванович, негодует на несовершенство мира, захваченного пошлой бесовщиной[61]. Рехнувшись, он в сумасшедшем доме изрекает теории, по самобытности не уступающие будущим откровениям Аксентия Ивановича: «А знаете ли вы, что у женщин организация слуха иначе устроена, нежели у нас? <…> Да, у них ухо прямо соединяется с башмаком; у нас с мозгом; это небольшая разница»; «Ловкость в танцах требует больше ума, чем вся ваша ученость <…> Вы знаете, где орган смелости? – Разверните Шпурцгейма – возле ушей: есть прямая пропорция между длиною ушей и человеческим духом во всех его свойствах», и т. д.
У обоих безумцев, андросовского и гоголевского, имеется заветный идеал – утраченная деревенская Русь. Там, под звуки «простой песни» любящей матери, протекало когда-то детство тоскующего Александра. Поприщин же просто возвращается к своей загробной «матушке» в фантасмагорическом полете:
Вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Пожалей о своем больном дитятке!..[62]
В последнем, предсмертном монологе андросовского страдальца его ностальгический порыв получит, как и у Поприщина с его «алжирским деем», трагически несуразное разрешение:
Впору напомнить, что «Не шей ты мне, матушка…» – это та самая песенка, которую будет насвистывать у Гоголя Хлестаков[64].
Между тем вслед за повестью Андросова в том же самом номере «Телескопа» шла анонимная переводная заметка о современных политических делах в Испании, точнее о борьбе за ее престол, – «Дон Карлос, инфант испанский». В свое время В. Л. Комарович, комментируя гоголевскую повесть, подметил, что мнение Поприщина – «Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король» – в общем соответствует позиции Дона Карлоса, как она излагалась еще в 1833 году в «Северной пчеле»[65]. Но столь же правомерно было бы соотнести легитимистские взгляды Поприщина и с трактовкой испанских событий, представленной в «Телескопе». Допустимы и другие сопоставления. Так, поприщинская кухарка Мавра, узнав, что ее барин оказался испанским королем, перепугалась, поскольку, как полагает герой, «находилась в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства». Предубеждения Мавры подсказаны, быть может, все той же журнальной статьей, где говорилось:
Некоторые сравнивают характер принца с мрачным характером Филиппа II; но всякое суждение о нем, основанное на сем сходстве, будет также совершенно превратно. Если сходство сие и существует, не нужно забывать, что Дон Карлос обладает всеми… добродетелями[66].
Николай Полевой, которого не жалует большинство гоголеведов, мог бы стать для них весьма ценной фигурой, причем в разных своих жанрах, – например, в комедийных зарисовках (ср. хотя бы гоголевскую «Тяжбу» с его драматической сценкой «Утро в кабинете знатного барина»[67]). С собственно романтическими взглядами Полевого во многом совпадают и эстетические установки Гоголя. Его сетования в «Арабесках»: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным» сходятся с обличительными сентенциями Полевого в «Абадонне» (1834) или в критических эскападах последнего – хотя бы в рецензии на «Собрание стихотворений Ивана Козлова», где он порицает свет, который делает «каждое из честолюбий мелким»[68].
Естественно, что эстетика Гоголя выказывает зависимость не только от русских, но и от западных сочинений. Одно из свидетельств тому – переводная статья Эдгара Кине «О состоянии искусств в Германии», вышедшая в самом начале 1833 года. Согласно Кине, язык живописи
стремится в высоту, вырывает себя по образцам величественных памятников готического зодчества, не ломаясь, не обрываясь нигде, он увенчивает себя при каждом слове украшениями и арабесками; вкореняется везде; всюду внедряется; всюду распускается на несметные листья; вяжется в снопы над своими колоннами; ползет; спускается; воздымается снова, не переводя духа, не останавливаясь нигде; и, когда таким образом создаст из себя памятник, весь из одного камня, почти из одной фразы, мысль исторгается из него, яркая и шумная, подобная звуку, извлекаемому из высоких сводов мрачного готического собора.
Специалист по Гоголю, конечно, сразу опознает здесь риторические узоры, которые повторятся в его статье «Об архитектуре нынешнего времени»[69]. Однако сходство этим не исчерпывается. Продолжая свои размышления (внушенные Гердером), Кине переходит к восточным религиям – и тут его картины предвосхищают гоголевскую утопию соединения разновременных и разностильных памятников мировой архитектуры на вытянутом пространстве одной улицы. «Все сии младенчествующие религии, – пишет Кине, – наследующие друг другу через ряды столетий, образуют как бы бесконечную процессию, воспевающую устами народов единое „осанна!“ на безмерной базилике Азии». Изображены олицетворенные Индия, Персия, Вавилония, Бактра, Египет, Халдея, цепенеющие либо содрогающиеся в экстатических позах; а затем дан контрастный переход к Святой Земле:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русский язык не был родным языком Сталина, его публицистика не славилась ярким литературным слогом. Однако современники вспоминают, что его речи производили на них чарующее, гипнотическое впечатление. М. Вайскопф впервые исследует литературный язык Сталина, специфику его риторики и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. Как язык, мировоззрение и самовосприятие Сталина связаны с северокавказским эпосом? Каковы литературные истоки его риторики? Как в его сочинениях уживаются христианские и языческие модели? В работе использовано большое количество текстов и материалов, ранее не входивших в научный обиход. Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга известного израильского филолога Михаила Вайскопфа посвящена религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике и трактовке эротических тем. Эта проблематика связывается в исследовании не только с различными западными влияниями, но и с российской духовной традицией, коренящейся в восточном христианстве. Русский романтизм во всем его объеме рассматривается здесь как единый корпус сочинений, связанных единством центрального сюжета. В монографии используется колоссальный материал, большая часть которого в научный обиход введена впервые.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
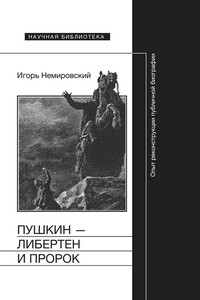
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.