А только что небо было голубое. Тексты об искусстве - [3]
Он и сам видел коренное различие между своим видением и академической историей искусств. Само собой, всю свою жизнь Мейер-Грефе находился под огнем критики – но он отстреливался. Например, в книге о Гансе фон Маре. В ней он пишет откровенно и язвительно: «У нас всегда делали выводы до того, как получали соответствующий опыт. Нашему мыслителю достаточно самого захудалого произведения искусства, чтобы продемонстрировать удивительные мыслительные ходы. Мы всегда только размышляли о цветах, вместо того чтобы нюхать их». А сам Юлиус Мейер-Грефе поступает наоборот: он вдыхает искусство, чтобы потом выдохнуть его в виде текста.
Цветы – хороший символ того, как Мейер-Грефе нюхал и смотрел. Потому что цветок может расцвести, а может и завянуть. Именно поэтому он идеально вписывается в его концепцию эволюционной истории развития искусства. За это его тоже, разумеется, осуждали – так, Мартин Варнке [5] писал о Мейер-Грефе, что «все художественные эпохи даны самим Богом» и поэтому любые субъективные оценки неуместны. Но Мейер-Грефе нужна эта вера в эволюцию, потому что только в этом случае он может описывать искусство как непрерывно шумящую реку, как что-то динамичное. С помощью включения в процесс эволюции он придает произведениям искусства важность и актуальность – и только это он может конгениально выразить на своем языке, насквозь пропитанном важностью и актуальностью. Именно поэтому ему приходится постоянно обращаться к французам. Ведь он знал, что немцы – мастера замедленного темпа. «Все они воспевают покой», – писал Мейер-Грефе, имея в виду и своего любимого Ганса фон Маре. «В этом он был настоящим немцем, как Фейербах, Бёклин, как Лейбль и Тома [6], как Гольбейн и Кранах. Если у них появляются подвижные мотивы, то они выпадают из общей картины».
И в этих двух фразах – весь Мейер-Грефе: из его невероятной способности чувствовать искусство, из огромного богатства визуального опыта он делает вывод, который никто не решался не то чтобы сформулировать – даже допустить. А стоит только помыслить такое, как столетия сжимаются у Мейер-Грефе до секунд и кажется совершенно нормальным говорить на одном дыхании сразу и о Бёклине, и о Кранахе. И наконец, самое главное: держа в голове этот вывод, или, выражаясь скромнее, этот тезис, мы будем по-другому смотреть на «немецкое искусство», мы очень быстро поймем, обещаю вам, как мудра эта краткая формула. Немцы – чемпионы по игре с неподвижным мячом.
Как бы то ни было, в своих эстетических суждениях Мейер-Грефе демонстрировал очень специфический талант. У него прекрасно получается взглянуть на современников ретроспективным взглядом – соединить свою оценку с той, которую даст, по мнению Мейер-Грефе, будущее. Например, Мане: «Если через сто лет – то есть сейчас – некий летописец будет искать важнейшие образцы нашего искусства, то из работ Мане он назовет две ранние картины – „Олимпию“ и „Завтрак на траве“».
Кстати, эти слова о Мане взяты из книги о Ренуаре. В той же книге содержится и бесчисленное множество оценок творчества Делакруа. А в книге о Мане он много пишет о Курбе. А когда он пишет о Курбе, то у нас есть возможность почерпнуть много глубоких мыслей о Сезанне. Мейер-Грефе будто летит на ракете через Вселенную, вокруг него все звезды и планеты, а он только и делает, что составляет из них разные комбинации. В результате Коро отбрасывает тень на Сезанна, а солнце Делакруа можно увидеть с планеты Ренуара. И все они вращаются в основном вокруг Делакруа. И так далее. А на далеких млечных путях ему мерцают Джотто, Рубенс, Кранах.
Через два года, в следующей книге, Мейер-Грефе смотрел на мир уже из другой перспективы, и расположение центрального светила и его спутников несколько изменилось. Можно называть это оппортунизмом: последовательность фигур на Олимпе вполне может меняться в зависимости от угла зрения и логики аргументации. Но если не терять равновесия, то можно научиться очень важной вещи: обнаружению явлений с помощью быстрой смены перспективы – автостопом по галактике, на заднем сидении у Мейер-Грефе.
Тут и голова может закружиться, потому что Мейер-Грефе неустанно описывает влияния, взаимосвязи, притяжение и отталкивание, тени и свет великих художников из непрерывно обновляющейся перспективы. Но и здесь мы повторим: мало кто так тонко чувствовал искусство, мало кто так точно подбирал для этого слова.
Еще один пример, две фразы из предисловия к его книге о Ренуаре. Совершенно неожиданно, на пустом месте, Юлиус Мейер-Грефе спрашивает: «Кто пишет историю барокко в XIX веке?» И не успевает читатель задуматься, что это вообще значит, как Мейер-Грефе сам выдает историю барокко, написанную в XIX веке. Для этого ему нужна всего одна фраза. Сейчас вы ее услышите – и эта фраза лучше всего демонстрирует, что я имел в виду, назвав свой доклад «Немецкий язык как искусство». Сначала для динамики повторю риторический вопрос автора: «Кто пишет историю барокко в XIX веке?» И далее: «Того трудноуловимого барокко, которое, подобно огромному морскому валу, несет на себе все творчество Делакруа, которое сопротивлялось натурализму Курбе и с которым безуспешно боролся Мане, которое швыряло Родена в выси и пропасти, плело кружева мазков на лучших полотнах Моне, стало у Сезанна фантастической конструкцией его мистики, будило у Ван Гога неистовые фантазии, а в сдержанных красках более молодых, вроде Боннара, плещется как морская вода между песчаных дюн во время отлива».

Перед вами хроника последнего мирного года накануне Первой мировой войны, в который произошло множество событий, ставших знаковыми для культуры XX века. В 1913-м вышел роман Пруста «По направлению к Свану», Шпенглер начал работать над «Закатом Европы», состоялась скандальная парижская премьера балета «Весна священная» Стравинского и концерт додекафонической музыки Шёнберга, была написана первая версия «Черного квадрата» Малевича, открылся первый бутик «Прада», Луи Армстронг взял в руки трубу, Сталин приехал нелегально в Вену, а Гитлер ее, наоборот.

В своей виртуозной манере Флориан Иллиес воссоздает 1930-е годы, десятилетие бурного роста политической и культурной активности в Европе. Жан-Поль Сартр в компании Симоны де Бовуар ест сырный пирог в берлинском ресторане Kranzler-Eck, Генри Миллер и Анаис Нин наслаждаются бурными ночами в Париже, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй переживают страстные романы в Нью-Йорке, Бертольт Брехт и Хелена Вайгель бегут в изгнание, так же как Катя и Томас Манн. В 1933 году «золотые двадцатые» резко заканчиваются.
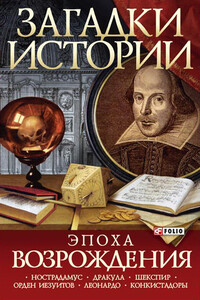
Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.
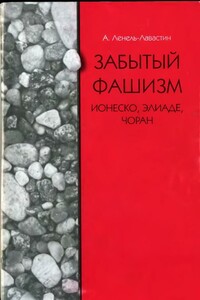
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.