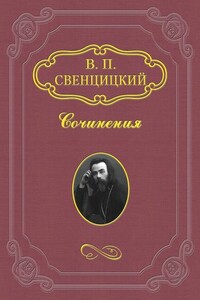После Котофея нельзя пройти мимо слов Собачьего сердца, ибо это фигура для нынешнего времени тоже типичная до ужаса. Он, видите ли, где-то услышал гадость об Ахматовой и Цветаевой. И вот спешит двинуть её дальше, поделиться ею со всем миром. Да подумал бы хоть о том, где, от кого подцепил эту заразу. Ведь если сердце собачье, то и нюх должен быть собачьим. Нет, нюх у него, как у несгораемого шкафа. А ведь не так давно был же такой поучительный урок с Павликом Морозовым. Как артельно навалились на убиенного подростка даже самые крутые наши патриоты: «Доносчик! Отцеубийца! Гадёныш!..». И это — вслед за прохвостом Альперовичем-Дружниковым, живущим ныне в Америке. И это — не желая знать, что отец был мерзавцем, глумившимся над детьми и женой, избивавшим их, в конце концов бросившим семью и на глазах всей деревни ушедшим к другой. И при этом — ни единого слова осуждения деда, убийцы двух родных внуков, словно этого и не было. Да ведь если Павлик и был виноват, с него же взыскали высшую плату, какую только возможно, — жизнь! Разве это не искупление с лихвой? «Нет! — заходились в злобе недавно напялившие крестики обличители. — Доносчик! Отцеубийца!» Так же сегодня заходится и энергично беспощадный Морс. А отцу-то дали всего несколько лет. Но главное, никого Павлик не предавал, он лишь вступился за свою брошенную, опозоренную несчастную мать. И только такие еще котофеи с собачьим сердцем, как Кирилл Ковальджи да Морс, могут глумиться над той трагедией.
А теперь послушаем Ольгу: «Великий просветитель Вадим Кожинов писал, что Мандельштам всегда был русским национальным поэтом и в этом разошелся со всеми еврейскими русскоязычными поэтами, за что они его и травили. А когда он был арестован, ни один из них не выразил ни сожаления, ни сочувствия».
Дорогая Ольга, если вы тут не ошибаетесь сама, то примите во внимание, что и великие иногда тоже дают маху…Н.Мандельштам опровергает великого, хотя в её воспоминаниях много несуразиц. Например, она божится, что в советское время слова «честь» и «совесть» совершенно выпали у нас из обихода и не употреблялись ни в газетах, ни в книгах, ни в школе (с.80). Господи, помилуй, да ведь на всех перекрёстках висели плакаты «Партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи». А в воинской присяге, которую принимали миллионы молодых людей, были слова: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических республик, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом…» В первую очередь, прежде всего — честным! Аркадий Первенцев дерзнул даже роман назвать «Честь смолоду» (1948). А Георгий Медынский — просто «Честь»(1959). Оба романа были весьма популярны в своё время. А «честное пионерское»? А «честное комсомольское»? Неужто Надежда Мандельштам все это и не видела, и не слышала? Вот уж поистине, как сказал её супруг, «Мы живём, под собою не чуя страны…» Они в таком состоянии до сих пор пребывают. Послушайте хотя бы адвоката Барщевского о том, до чего беззаботно да благостно жили русские крестьяне до революции.
К разряду замшелых антисоветских глупостей следует отнести и такие, скажем, её изречения: «В 50-х годах был приказ всех, кто побывал в лагерях, вновь сослать и уже навечно» (217)… Ну, хоть бы один примерчик! А вот побывавшие там только из числа лично мне знакомых: академик Лихачев, писатели Солженицын, Лев Копелев, Лев Разгон, Сергей Поделков, Ярослав Смеляков, Олег Волков, Анатолий Жигулин…Никого из них не только не сослали вторично, а наоборот — принимали в Союз писателей, широко печатали, награждали орденами, получали они ответственные должности, давали им Государственные премии, квартиры… Что ещё?
Но вот ещё открытие: «Все советские граждане пугались неожиданных посетителей, машин, если они останавливались у дома, и поднимающегося ночью лифта» (с.263). Все!..
Пожалуй, пора назвать ответственных за выпуск этой книги: Юрий Фрейдин, Николай Панченко (кажется, академик), Александр Морозов, Владимир Кочетов и Вацлав Михальский. Уважаемые, неужели никто из вас не знает хотя бы того, что у большинства советских людей лифта просто не было! Да и сейчас — далеко не у всех.
А по поводу интересующего нас вопроса есть у Н. Мандельштам такое заявление о тридцатых годах: «В тот период на каторге и ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. А на воле с этим давно было покончено» (с.72). И опять: «Я только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся, что кто-нибудь поможет — все привыкли, что вы погибаете. Никто не пожмёт руку — не надейся. Никто не поклонится при встрече — не надейся» (с.256).
Это она могла слышать прежде всего от Солженицына, а он обо всём всегда судит по себе. В пору самой колокольной его известности, когда ему ручку жал сам Хрущёв, он писал, например, что в лагерях заключенные умирают с голоду. Тогда министр Охраны общественного порядка (было такое) предложил ему на выбор поехать в какой-нибудь лагерь, проверить. Он сразу решительно отказался. Как же так? Ты же вопишь, что люди умирают. Так езжай, разоблачи бюрократов и негодяев, вступись за несчастных. «А кем я поеду? А как? Я жалкий каторжник (выдвинутый на Ленинскую премию. — В.Б.). Я не занимаю никакого поста». А Лев Толстой не терзался вопросом, кем поедет, а садился на дрожки и ехал в голодающую Бегичевку устраивать бесплатную столовую. Правда, некий пост он действительно занимал — священный пост русского писателя, народного заступника. Но ведь тогда многие думали, что и Солженицын занимает такой пост, а он сам до сих пор уверяет в этом. Нет, отказался, сразу сообразив своим расторопным умом, что это обернётся его собственным разоблачением.