1937 - [7]
Брежневской клике, пришедшей на смену Хрущёву, даже та трактовка большого террора, которая превалировала в годы «оттепели», казалась опасной. Поэтому она попросту наложила табу на обсуждение этой темы и разработку соответствующих сюжетов в художественной и исторической литературе.
Конечно, и в годы застоя очевидцы событий 30-х годов продолжали писать мемуары, а писатели, учёные и публицисты — создавать произведения на эти темы. Рана, нанесённая 1937 годом, была настолько незажившей, а боль от воспоминаний о сталинском терроре — настолько жгучей, что многие выдающиеся литераторы и мемуаристы отдавали годы работе над такими произведениями, писавшимися «в стол», т. е. без всякой надежды увидеть их опубликованными в обозримое время. Вместе с тем в самиздате уже с конца 60-х годов стали широко циркулировать мемуары и художественные работы, на публикацию которых в СССР был наложен официальный запрет. Вслед за этим началась передача многими советскими авторами своих произведений для публикации за границу.
Возврат к теме сталинских репрессий в официальной советской печати произошёл, начиная с 1986 года. Однако, как и в 50—60-е годы, официальная санкция на обращение к этой теме диктовалась далеко не только стремлением к восстановлению исторической правды и очищению от язв сталинизма. Если обе «хрущевские» волны разоблачений были вызваны во многом соображениями борьбы с т. н. «антипартийной группой» Молотова, Кагановича, Маленкова, то «перестроечная» волна была поначалу вызвана иными конъюнктурными соображениями: стремлением переключить внимание общественного мнения от очевидных неудач щедро разрекламированной «перестройки» к трагическим событиям прошлого, за которые новое поколение руководителей партии не несло ответственности.
Выплеснувшийся под флагом «гласности» поток разоблачений на первых порах был настолько мощным, что в 1987—1989 годах общественное мнение было почти всецело поглощено вопросами отечественной истории времён сталинизма. Этим обстоятельством во многом объясняется резкое повышение в те годы подписки, а следовательно, и тиража массовых газет, литературно-художественных и общественно-политических журналов, неуклонно публиковавших всё новые и новые произведения о сталинских преступлениях.
Однако очень скоро обнаружилось, что темы большого террора и сталинизма использовались многими авторами и печатными органами для того, чтобы скомпрометировать, обесчестить идею социализма. Этот антикоммунистический, антибольшевистский поход был во многом подготовлен деятельностью западных советологов и советских диссидентов 60—80-х годов, пустивших в обращение целый ряд исторических мифов.
Историческая мифология всегда представляла одно из главных идеологических орудий реакционных сил. Но в современную эпоху исторические мифы не могут не рядиться под науку, для своего подкрепления они нуждаются в подыскивании псевдонаучных аргументов. В конце 80-х годов на страницах советской печати получили вторую жизнь мифы, созданные в первые десятилетия Советской власти. Один из них сводился к фактическому повторению сталинской версии 1936 года о голой жажде власти, якобы определявшей борьбу Троцкого и «троцкистов» против сталинизма. Согласно данному мифу, политическая доктрина «троцкизма» не отличалась чем-то существенным от сталинской «генеральной линии», а в случае победы оппозиции во внутрипартийной борьбе она повела бы политику, принципиально не отличающуюся от сталинской.
Другие мифы, ведущие начало от работ идеологов первой русской эмиграции и ренегатов коммунизма 20—30-х годов, направлены на дискредитацию, оплёвывание героического периода русской революции. Для того, чтобы идеологически расчистить дорогу реставрации капитализма в СССР, требовалось разрушить существенный пласт массового сознания, переместить знаки в трактовке таких явлений, окружённых в сознании миллионов советских людей ореолом величия и героизма, как Октябрьская революция и гражданская война. Не случайно, что примерно с 1990 года разоблачительный пафос в критике нашего исторического прошлого был перенесён с эпохи сталинизма на первые годы послеоктябрьской истории. Наиболее ругательным словом в трудах как «демократов», так и «национал-патриотов» стало неожиданно всплывшее полузабытое понятие «большевик», которое правомерно относить лишь к ленинскому поколению партии и её не переродившимся в последующие годы элементам.
В формирование этого мифа немаловажный вклад внёс Солженицын, утверждавший в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ», что «ежовщина» была лишь одним из потоков «большевистского террора» и что не менее страшными и однотипными потоками были гражданская война, коллективизация и репрессии послевоенных лет.
Между тем очевидно, что борьба народа с открытым классовым врагом и с действительными вооружёнными заговорами, неизбежными в гражданской войне, когда фронт трудно отделить от тыла,— это совсем иное, нежели борьба правящей бюрократии с крестьянством, составлявшим большинство населения страны (именно в такую борьбу вылились «сплошная коллективизация» и «ликвидация кулачества как класса»). В свою очередь борьба с крестьянами, нередко отвечавшими на насильственную коллективизацию вооружёнными восстаниями (такие восстания не прекращались на всём протяжении 1928—1933 годов),— это совсем иное, нежели истребление безоружных людей, в большинстве своём преданных идее и делу социализма. Что же касается репрессий последних лет войны, то они были обращены не только против невинных людей, но и против тысяч коллаборационистов и участников бандформирований (суровые расправы с пособниками гитлеровцев в то время прошли также во всех странах Западной Европы, освободившихся от фашистской оккупации).

Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).В шестом томе анализируется состояние советского общества после «великой чистки» 1936—1938 годов.
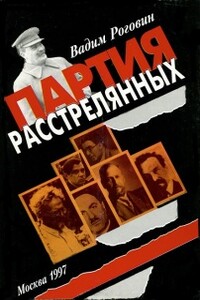
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).В пятом томе освещаются важнейшие политические события в СССР, начиная с июньского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года, на котором было сломлено противодействие большому террору внутри Центрального Комитета, и до снятия Ежова с поста народного комиссара внутренних дел.
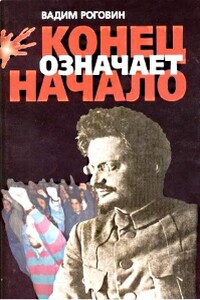
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).В заключительном томе дается широкая панорама социально-экономического положения в стране накануне войны.
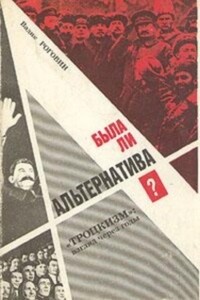
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).В первом томе впервые для нашей литературы обстоятельно раскрывается внутрипартийная борьба 1922—1927 годов, ход и смысл которой грубо фальсифицировались в годы сталинизма и застоя.
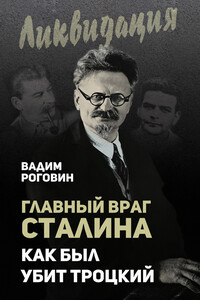
Вадим Захарович Роговин — российский историк, социолог и публицист, главной темой исследований которого были 1930-е годы в СССР. В книге, которую вы собираетесь прочитать, показано противостояние двух вождей коммунистической партии — И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого. Оно не закончилось после высылки Троцкого из СССР в 1929 году, наоборот, стало еще более острым. Троцкий резко выступал против политики Сталина, печатал разоблачающие документы, организовывал сопротивление сталинскому режиму. Не удивительно, что на Троцкого устраивались покушения, очередное из них в 1940 году стало удачным. В своей книге Вадим Роговин не только приводит факты и документы об этой борьбе и самом убийстве, но и подробно анализирует причины конфликта между Сталиным и Троцким.
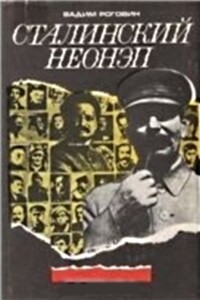
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).В третьем томе рассматривается период нашей истории в 1934—1936 годах, который действительно был несколько мягче, чем предшествующий и последующий.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».
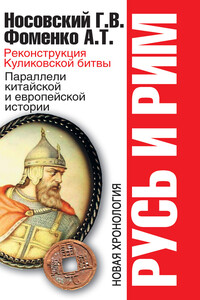
Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
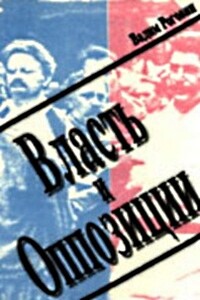
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).Второй том охватывает период нашей истории за 1928—1933 годы.