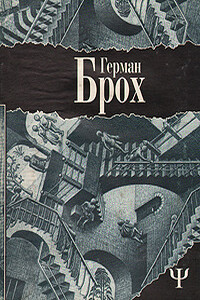1918. Хюгану, или Деловитость - [2]
Так и сидел Хугюнау у входа в землянку, подобно часовому на посту; его голова прислонилась к косяку, он высоко поднял воротник шинели, ему больше не было холодно, он не спал, но и не бодрствовал. Камера пыток и землянка все больше погружались в немного грязноватые, но все же яркие цвета того грюневальдского алтаря; снаружи в оранжевом свете пушечного фейерверка и осветительных ракет простирали к небу ветки руки голые деревья, а в сияющую разорванную высь взмывал человек с поднятой рукой,
Когда на землю опустились первые холодные и свинцовые проблески рассвета, у края окопа в траве Хугюнау заметил не сколько прошлогодних маргариток. Он выскользнул из окопа и пополз туда, Он знал, что подстрелить его из английских окопов не составит никакого труда, что его ждут неприятности и со стороны немецких постов. Но мир, казалось, лежал под вакуумным колпаком — Хугюнау вспомнился колпак для сыра, — серый, неподвижный и совершенно безжизненный мир был погружен в нерушимую тишину.
В окружении кристально чистого воздуха, готовящего приход весны, держит свой путь по бельгийским просторам безоружный дезертир. Какая ему польза от спешки, рассудительная осторожность ему куда полезней, да и оружие его вряд ли защитит; он проходит сквозь все опасности с голыми, так сказать, руками. Непринужденное выражение его лица — более надежная защита, чем оружие, или поспешное бегство, или фальшивые документы,
Бельгийские крестьяне недоверчивы. И четыре года войны не способствовали смягчению этой черты их характеров — хлебам, картофелю, лошадям, коровам пришлось испытать это все на себе. И когда к бельгийским крестьянам рвется дезертир, они принимают его вдвойне недоверчиво: не тот ли это парень, который как-то колотил в их ворота прикладом винтовки? И даже если такой сносно говорит по-французски и выдает себя за эльзасца, то все равно в девяти случаях из десяти это ему не очень-то помогает, равно как и проходящим через село беженцам или просящим о помощи. Но тот, кто, подобно Хугюнау, не полезет в карман за острым словцом, кто заходит во двор с излучающей дружеское выражение физиономией, тот без труда может получить ночлег на сеновале, тому позволено будет вечерком посидеть вместе с семьей в темной комнатушке и порассказывать о жестокостях пруссаков и о том, как они вели себя в Эльзасе, он сорвет аплодисменты, он получит даже свою долю от заботливо припрятанных запасов, а если чужаку повезет, то его на сене может навестить и какая-нибудь служанка.
Впрочем, еще выгоднее быть принятым в доме священника, и Хугюнау довольно скоро обнаружил, что при этом в значительной степени может помочь исповедь. Он исповедовался всегда по-французски, при этом искусно связывал грех надломленной солдатской зависти с рассказом о своей достойной сожаления судьбе, что, конечно, не всегда заканчивалось приятно: как-то его угораздило попасть на одного пастора, худого, высокого мужчину с такой аскетической и сострадательной внешностью, что он с трудом осмелился вечером после исповеди посетить пасторский дом, ну а увидев сурового мужчину, занимавшегося весенними работами во фруктовом саду, решил, что лучше всего будет ретироваться. Но пастор не медля выскочил к нему. "Suivez-moi"[3],- грубо скомандовал он и потащил его в дом.
Хугюнау разместили в комнатушке на чердаке. Ему пришлось провести в пасторском доме при скудном питании почти целую неделю, Облачившись в голубую блузу, он работал в саду; его поднимали к утренней мессе, и ему было позволено принимать пищу на кухне, за одним столом с неразговорчивым пастором, Никто не вспоминал о его бегстве, и ситуация очень смахивала на испытательный срок, который не вызывал у Хугюнау положительных эмоций, Он начал уже даже раздумывать над тем, чтобы, вопреки относительной безопасности, отказаться от этого убежища и продолжить свой опасный путь, как вдруг — это случилось на восьмой день после его прибытия — он обнаружил в своей клетушке гражданский костюм. Пастор сказал, что он может взять его и в его воле выбрать, уйти или остаться; но только содержать его он больше уже не может, хлеба и так не хватает. Хугюнау решил отправиться дальше, и когда с его языка уже готовы были сорваться слова благодарности, пастор опередил его: "Hai'ssez les Prussiens et les ennemis de!a sainte religion. Et que Dieu vous benisse"[4]. Он поднял два благословляющих перста, перекрестил его, и глаза на костлявом крестьянском лице пастора пылали ненавистью.
Выйдя из пасторского дома, Хугюнау понял, что речь теперь идет о разработке хорошего плана бегства, Если раньше он частенько ошивался возле высоких командных инстанций, где можно было легко затеряться в массе солдат, то теперь это становилось невозможным. В принципе гражданская одежда его стесняла; она словно напоминала о необходимости вернуться к мирной повседневной жизни, и то, что по требованию пастора он надел ее, казалось ему сейчас глупостью. Это было вмешательством постороннего в его личную жизнь, а личная жизнь далась ему ох какой дорогой ценой. Даже если он и не считал себя принадлежащим к кайзеровской армии, то как дезертир из этой армии он был связан с ней своеобразным, даже можно сказать отрицательным образом, и уж, вне всякого сомнения, он принадлежал войне, о существовании которой ему было прекрасно известно, Хугюнау удавалось сдерживать свои эмоции, когда в столовых и кабаках люди ругали войну и газеты или утверждали, что газеты куплены Крупном для того, чтобы продлить войну. Ведь Вильгельм Хугюнау был не только дезертир, он был коммерсант, и он восхищался всеми фабрикантами, поскольку те производили товары, которыми остальные люди торговали. Так что если Крупп и угольные бароны купили газеты, то они знали, что делают, и это целиком и полностью их право, точно так же, как его собственное право состояло в том, чтобы носить форму, пока его это устраивало. А значит, ничто не говорило в пользу того, что следует возвращаться в глубокий тыл, куда с помощью своего гражданского костюма хотел отправить его этот пастор, ничто не говорило в пользу того, что следует возвращаться в те родные края, где нет передышки и где царят будни.
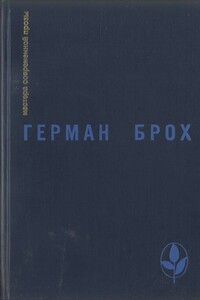
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
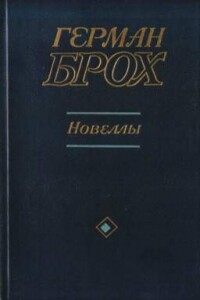
Герман Брох (1886–1951) — крупнейший мастер австрийской литературы XX века, поэт, романист, новеллист. Его рассказы отражают тревоги и надежды художника-гуманиста, предчувствующего угрозу фашизма, глубоко верившего в разум и нравственное достоинство человека.
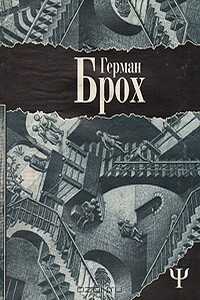
Роман "Лунатики" известного писателя-мыслителя Г. Броха (1886–1951), произведение, занявшее выдающееся место в литературе XX века.Два первых романа трилогии, вошедшие в первый том, — это два этапа новейшего безвременья, две стадии распада духовных ценностей общества.В оформлении издания использованы фрагменты работ Мориса Эшера.

Все шесть пьес книги задуманы как феерии и фантазии. Действие пьес происходит в наши дни. Одноактные пьесы предлагаются для антрепризы.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.

Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.

Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.

Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем? Книга о людях, которые ищут Бога.

Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе — как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника — Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.