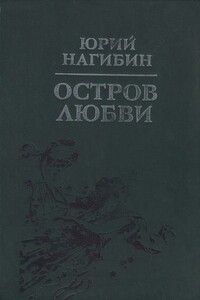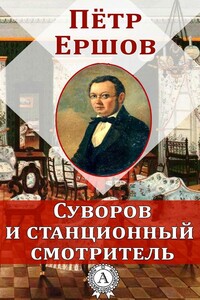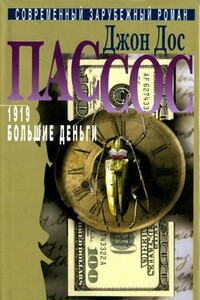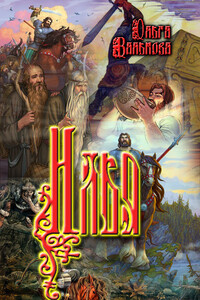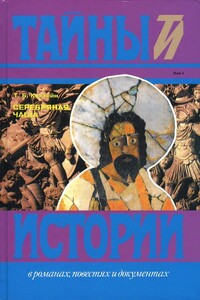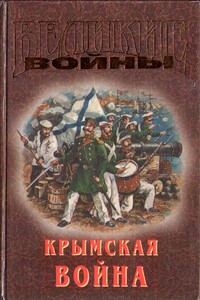Из себя не выбежишь, от себя не уйдешь, не спрячешься. И что толку натягивать на голову драное одеяло, зарываться в сальную, противно теплую, колючую от перьев подушку без наволочки, подтягивать колени к ноющему животу, сворачиваться в клубочек, до боли жмурить глаза от резкого света солнечного июньского полдня, все равно сна больше не будет и полусна тоже не будет, одна лишь маета, и дрожание нервов, и мучительная, душная толкотня каких-то обрывочных мыслей. Ей-богу, он достаточно себя знал, чтобы не надеяться на спасительное забытье добавочного сна. В том бреду, каким давно уже стало его существование, исподволь образовался порядок, столь же непреложный, как размеренная по часам жизнь какого-нибудь педанта англичанина. Правда, у Аполлона Григорьева счет велся не на часы, а на дни. Большой загул длился девять дней, ни днем меньше, ни днем больше: на исходе девятого дня окончательно сдавала печень, не принимавшая больше ни капли вина. Провальный сон распластывал его ровно на сутки, после чего начиналось опамятывание с тошнотой и смертной слабостью дрожащая рука не могла удержать стакана с водой, желудок выталкивал даже самую безвредную пищу, — но постепенно измученное тело собиралось, крепло в узлах, обретало подвижность, оживлялось, а там и закипала мысль, он вновь радовался, возмущался, ликовал, гневался, страдал, рвался к борьбе, он жил. На этом кончался четкий распорядок: нельзя было рассчитать, когда внутренний подъем жизни достигнет некой критической точки и потребуется вновь открыть шлюзы. Тем более что вмешивались нередко посторонние силы: загулявший приятель мог до срока затянуть в свой омут или похороненный на дне памяти образ вдруг оживал, населял душу невыносимой болью, и не было иного спасения, как потопить его в вине; и на обман он поддавался — случалось, одна-единственная рюмка с устатку разом ломала всю стройную линию поведения, и гитарный аккорд мог сшибить с высоты, куда возносила его по-юному горячая и сильная мысль.
Но в нынешний заход давно установившийся порядок впервые нарушился; он гулял ровно десять дней. И удивление перед этим новшеством было первым чувством, пришедшим к нему с возвращением памяти. К добру или к худу такая перемена? Но коли расшаталась, сдвинулась прочная система, то почему бы лишнему дню загула не обернуться лишним часочком сна? Хоть бы еще на час, на один только час оттянуть возвращение невыносимой яви. Но сна не было ни в одном глазу, и, сколько ни корячься на жесткой койке, его не призовешь. Надо вставать, надо начинать жить. Жить… Перемежать пьяные запои с запойной работой — разве это жизнь? Да, его жизнь. Проклятая, горькая, бесталанная и все еще милая жизнь. Вроде бы катиться дальше некуда, а ведь не променял бы он бесчастную свою жизнь на тихое, благостное жиронакопление. Менять жизнь — значит самому измениться. А нешто это вообще возможно? Сколько раз собирался он начать новую жизнь, опрятную, трезвую, всю как есть посвященную полезным и добрым делам, а ведь ничего не вышло. И спутниц ко спасению, надо отдать ему должное, находил самых подходящих: в молодости — заневестившуюся Лидию Корш, ставшую в замужестве скандальной, распутной и крепко пьющей барынькой, и в недавние дни — номерную проститутку Марью Дубровскую. Последнее было и вовсе непостижимо. Не связь с проституткой, это ему не внове, а то, что он, человек сороковых годов, выступил в классической роли шестидесятника. Не было, правда, ни швейной машинки, ни фиктивного брака. Было кое-что похуже. «Семейная» жизнь в степном Оренбурге, смеси скверной деревни с казармой, без истории, без преданий и памятников, без старого собора и чудотворной иконы, незаконное брачное сожительство со всем тем дурным, что может дать неудачный законный брак: скандалами, бессмысленными сценами ревности, грязными оскорблениями безответной прислуги и непомерными претензиями, будто «устюцкая барышня» на принца рассчитывала, а ей достался учителишка, с завистью к дамам оренбургского «света» — их туалетам, выездам, раутам. А до этого, еще в Петербурге, были тщетные попытки найти ей занятие: и языкам иностранным пытался обучать, и музыке, даже на сцену вывел, использовав в первый и последний раз свое влияние театрального критика. Ни к чему не оказалось у нее ни терпения, ни таланта. Но, только промучившись без малого год в богом забытом Оренбурге и возненавидев до стона, до крика, сквозь всю смертную жалость ее глупую, цепкую, как волчец, эгоистическую любовь, не мешавшую ни малым, ни большим предательствам, собственную свою слепоту и глупейшее самообольщение, понял он, что «устюцкая барышня» навсегда останется такой же, какой была в пору их знакомства, пожиная скудные плоды своего холодно и бездарно рассчитанного падения. Они расстались…
Трудно, до невозможности трудно человеку сменить шкуру, и все же он мог бы стать другим, даже сейчас мог бы, позови его та, единственная. Пусть только поманит, пальчиком шевельнет. Ради нее он забудет вино и цыган, разобьет гитару, станет тихим, покорным, смиренным, как последний мещанин, если это надо его душечке. Почему он так назвал ее в песне? «С голубыми ты глазами, моя душечка». Она никогда не была его душечкой. Чистая, невинная, с прозрачно-голубым взором и гладким, бестревожным лбом, источающая какой-то эфирный холодок, она была недоступна для его страсти и то ли не догадывалась о ней, то ли искусно изображала неведение. Потом, когда она уже принадлежала другому, появились стихи, громкие и откровенные, но ни единым словом не отозвалась она его мучительным признаниям. Ни на миг не потревожилось ее чистое и спокойное сердце его бурной, неопрятной страстью. Он лгал в стихах, утверждая противное. Нет, в стихах все было правдой, но то другая, особая правда, не равная скудной истине дневной очевидности. А как сладко, как нежно и больно было сказать ей, недоступной: «С голубыми ты глазами, моя душечка»! Тут и прощение, хотя ока никогда ни о каком прощении не просила, да и не признала бы его права прощать ее. Но перед богом — разве не нуждается в прощении человек, причинивший столько зла другому человеку? И он простил ей свою сломанную судьбу, простил безмятежность мраморного лба, не отозвавшегося хоть морщинкой беззвучному вою, каинской тоске его души, простил холодную жестокость невинности, не замечающей на белой своей одежде крови распятого. Да какая она душечка? Душечка — теплая, слабая, нежная, готовая, даже не любя, по одной бабьей жалостливости приникнуть сердцем к больному любовью сердцу. А Леонида — имя-то какое на русский слух нелепое! — швейцарское дитя, вспоенное разреженным прохладным воздухом Альп, ну, чего зря болтать, замоскворецким густым, деготным, ладанным воздухом вспоено дитя обрусевшего швейцарца Визарда; льдышку носит в груди, куда ей а душечки! Но растопилась льдышка, замутился бездонный голубой взгляд, прежде легкое, неприметное дыхание затревожило газовую косынку на груди, когда в доме появился эффектный и пустоватый Михаил Владыкин. И до чего же легко досталась Леонида этому барину и удачливому драматургу! Не уплатив дани мук, страдания, собачьей преданности, тоски, стихов и слез, он с непостижимой быстротой сделал ее своей перед богом и людьми и увез в пензенскую деревню. Они умчались, не заметив, что колеса свадебного возка переехали человечье сердце. А там семейная тишина скоро наскучила этому удачнику. Он вдруг открыл в себе актера и обернулся Менелаем на московской сцене. Ну и черт с ним, пусть менелайствует себе на здоровье, но она-то, Елена этого Менелая, что с ней? Поди, осалопилась, отупела в своей глуши, а может, и на новую линию вышла? Она ведь сильная, умственная, от гибельных чувств и от гибельных людей хорошо защищенная. За нее нечего бояться…