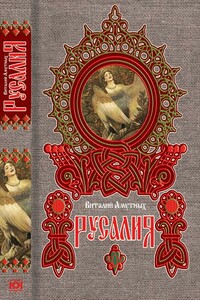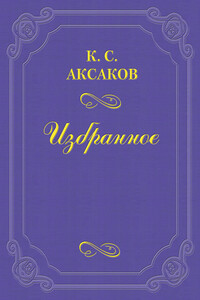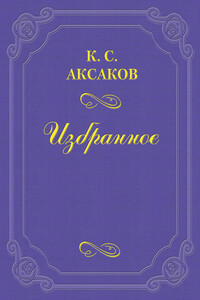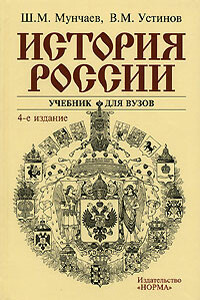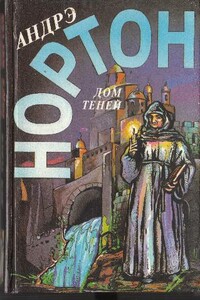Амутных Виталий Владимирович
Жажда
От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят,
и от того, что ты будешь видеть глазами твоими,
утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!
а вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!»
ВТОРОЗАКОНИЕ. Гл. ХХVIII, 67.
Раньше я даже не мог подумать, что стены способны быть так всесильны, так самодовольно всевластны, и уж никак не догадывался о их склонности к самым изощренным розыгрышам. Нет, я никогда не обольщался мнением о якобы полной зависимости неодушевленных предметов от человека. О, я знал, как своевольно может повести себя стакан или книга. Но все же ни одна вещь никогда не освобождалась целиком из-под моего контроля, тем более не смела противопоставить себя мне, а впоследствии возвыситься до…
Стена возле моей кровати: красный фон, по нему золотой вензель с повторением завитка через каждые тридцать сантиметров. Вполне обычный обойный рисунок для любого, кто впервые на него смотрит, но только не для меня. Годы я изучал его жесткий секрет. Вот он начинается полураскрытой чашечкой тюльпана, слева и справа выбрасывает по узкому листку, следующий побег с бусинками ягод рождает целый каскад фантастических цветов, из их удушливой тесноты появляется некое подобие грифона, а далее последний листик, столь трогательно тянущийся к очередной чашечке тюльпана, вдруг неожиданно сворачивается в петлю, так и не коснувшись желанной цели, и между ними навсегда остается красная бороздка, совсем узенькая, но непреодолимая. Сколько раз я изучал этот бесовский ход узора, в надежде при помощи какой-нибудь не открытой пока хитрости перескочить в новый его период, и, доходя до предпоследней фигуры, все начинал сначала, ибо, если пройти заключительную петлю вязи — никакого продолжения не будет, только красный обрыв.
В моей квартире три комнаты, и когда-то все их уголки были обитаемы мной. Теперь остался небольшой участок спальни, где я провожу большую часть времени и чувствую себя в безопасности. Красные стены здесь давно молчат. Впрочем, красными я их называю потому, что помню, какого цвета были куплены обои. Стены же, из-за навалившихся на окно каштанов (в комнате в любое время дня тусклые сумерки), навсегда утратили свой природный цвет и вот уже многие годы дремлют в плавающем сером мареве. У кровати жены, что устроилась напротив моей, они украсили себя ковром со светло-бежевой геометрией, у окна кашпо с умирающей болезненно-белесой традесканцией (полить бы), под потолком навсегда пыльная люстра.
Описать свою каждодневную жизнь весьма затруднительно, поскольку всякую попытку к действию пожирает царящая в доме летаргия, а опыт спорить с ней пришлось оставить как несостоятельный. Иногда случается, очнется немой телефон и голосом кого-нибудь из троих моих детей поздравит с праздником. Бывает заходят какие-то люди, но они почему-то больше смахивают на пригрезившиеся образы или полуночные тени, нежели на живых существ. Да, в доме вместе со мной живет жена, но ее присутствие я почти никогда не ощущаю. Пожалуй, основной объем времени я посвящаю своей кровати и ее немому окружению. Мой ум развлекает неразрешимая, видимо, но довольно занятная загадка обойного узора… А что еще нужно? Пределы дома я практически никогда не покидаю: там каждую минуту нужно вести борьбу за существование, борьбу за место на тротуаре, за столик в кафе. Нет-нет-нет, избави Бог! Довольно.
Как же лучше начать: «и вот однажды…» или «как-то ночью…»? Кстати, ночь была отвратительно душной: летнее набухшее небо вот уже второй день силилось разродиться дождем. Студенистый жирный воздух едва заметно подрагивал от щекочущих ленивых листьев. Его знойные лобзания довели меня до полного исступления, не оставив надежды на желанное забытье. Влажная от пота простыня свилась жгутом. Близкое громовое «ах!» заставило содрогнуться изможденные побеги традесканции на окне, и стена, взвизгнув, разразилась тихим упоенным хихиканьем. Смех был негромок, но какая-то особая его возбужденность обнаруживала влекущий призыв. Затем звенящее бормотание неожиданно нырнуло с самых высоких нот в глубокие низы. Опять смех, теперь уже одновременно в двух регистрах. Измученный предгрозовой экзекуцией лета, я даже не дал себе труда объяснить столь странное поведение стены хоть более-менее реальными причинами, но как-то невесело задумался о своем здоровье. Звуки не переставали тиранить мое уединение, то сжимаясь до едва уловимого дыхания, то вспыхивая яркими букетами. Судорожно перебирая возможные своего спасения, неожиданно отчетливым «прошу только» я наконец-то был ввергнут в область понятного. Конечно, что же я сразу-то… Это сосед вернулся из своей долгосрочной отлучки. Вчера (или позавчера?) жена со своей подругой на кухне обменивались информацией. Учился… Женился… Да-да, они еще называли ее «молодой такой селедкой». Я же и сам видел его из окна, помню, отметил: бегал худенький мальчик, а превратился в великолепного атлета. Такая шея… Белая ветка молнии взметнулась в лиловом безмолвии, — небо грянулось оземь.
Дождь лил с переменным успехом до вечера. Лишь к закату рваные остатки небесных полчищ жалким косяком скрылись за ломаной линией городского горизонта. Последней вымученной улыбкой красное солнце брызнуло глянцевой сырости и бессильно сползло в свою нору. Я всячески пытался извести в себе непонятно откуда вылупившееся требовательное ожидание. «Ничего не происходит. Что происходит? Ведь ничего не происходит». Даже дольше обычного задержался у телевизора, выслушивая натужные завывания бесстыжего вида девиц и парней. Однако, как не пытался развлечься ритмизованными голосами сельвы, чем упрямее стремился ввести себя в обман, предмет, беспредельно овладевший мной, проявлялся все отчетливее. А вдруг сегодня она не очнется, не заговорит, и вновь, завернувшись в дряблую плоть летаргии, поплыву по невидимым излучинам опийных вод Леты. Но не успел я устроиться поудобнее в своем целительном убежище, стена всхлипнула и повела нечленораздельный монолог двухголосого существа, понуждавший закипать бедный мозг в своем тесном склепе…