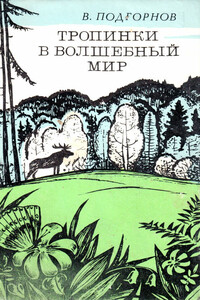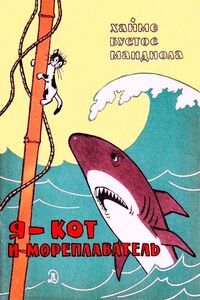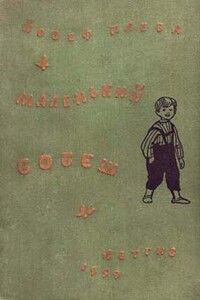Я разомкнул веки и взглянул на часы — без пяти пять! Через распахнутое окно так палило солнце, даже простыня была горячей! Хорошо, жара доняла, не то провалялся бы до вечера, на потеху Манане…[1] Вообще-то можно еще поспать. Я перекинул подушку на другой конец тахты, в тень, к опять растянулся.
В кухне мама мыла посуду, слышно было, как звякали тарелки. Немного погодя туда просеменила моя сестричка Манана.
— Где тебя косило, стрекоза неугомонная! А?.. Громче, не слышу что-то, — привычно заворчала мама.
В ответ — молчание.
— Где, говоришь?
— На ферме! Будто не знаешь, на ферме! — Это сердитый голосок Мананы.
Манана на целых семь лет младше меня, ей восьми нет, но представьте, я покорно подчиняюсь ей во всем. Почему? Потому что она в страхе меня держит. Нет, не думайте, что я трусливый. Пусть скажут, что на вершине Тбацвери дракон перекрыл наш родник и лишил деревню воды, так я первым кинусь туда и шкуру с него сдеру! И хвостатой ведьмы не испугаюсь, ну, а про многоголового Бакбакдэва и говорить нечего — сквозь землю провалюсь, а дороги ему не уступлю! А вот Мананы боюсь. Обидится из-за какого-нибудь пустяка и давай вопить. Попробуй уйми ее тогда! Заревет и тянет, тянет без передыху, разве что слюну сглотнуть умолкнет рта секунду. Ревет, и ничем ее не утихомиришь, ничем не задобришь. Пока я успокаиваю ее, умасливаю, проходит день и, к удовольствию Мананы, подоспевает мама с птицефермы. А у гранатового дерева перед домом, между прочим, кизиловый прут для меня держат — чтоб всегда под рукой был. Мама как заслышит, что Манана ревет, прихватывает прут и с ним поднимается на веранду. Объясняю, что не трогал я Манану, просто груш ей не нарвал, потому и вопит. Все равно мама винит меня — не соображаешь, говорит. Как же не соображаю, зря, что ли, в седьмой класс меня перевели! Так вот убеждаю маму, что не виноват, чтобы отвлечь внимание, даже кошку зову в свидетели: «Кис-кис…» Да разве мама послушает! Без долгих разговоров замахивается прутом! Я, понятно, не стою как пень, вылетаю через другую дверь, кубарем качусь по лестнице во двор…
Иногда я газеты дедушке читаю и рассказываю ему, что на земле мир устанавливают и скоро все оружие уничтожат, в океан побросают. Дедушка смеется: охотники наши, говорит, не позволят, не из рогаток же зверя бить… Так вот, даже если и вправду запретят оружие, мне легче не станет, пока не запретят и прутья, особенно кизиловые…
Я продолжаю лежать.
Из кухни снова доносится голос мамы:
— А что ты делала на ферме?
— На цыплят глядела, — объясняет Манана.
— А разве дома у нас нет цыплят?
— Там их много…
— Хорошо, раз убегаешь со двора, завтра не пойдешь в кино, — спокойно говорит мама.
Мама выходит на веранду — слышу ее легкие шаги и скрип половиц. Я так и вижу, как стоит теперь Манана у посудного шкафа: опустила плечи, руки и уставилась в одну точку. Не обратишь на нее внимания — до утра простоит, не пошевелится и словечка не проронит. Она всегда так, как обидится.
Я стараюсь уснуть и не могу — жарко очень.
Опять послышались шаги, теперь с веранды на кухню.
— Ну чего стоишь! — ворчит мама. — Бери кувшин, беги к роднику, да смотри живо — назад: дедушка вот-вот вернется из лесу. Утром говорил, одна у него забота — сплести Манане красивую корзиночку…
От радости Манана сломя голову сбегает по лестнице — знает, после этих слов мама непременно простит ее.
Признаюсь вам, и я всегда прощаю Манане ее проступки, а вернее сказать, вступаю с ней в соглашение. Происходит это так…
— Все, не возьму тебя больше в кино, раз ты ябедничаешь, — заявляю я.
— Не буду больше, вот увидишь, не буду…
— Пиши, на слово не верю.
— Дай бумагу и карандаш.
Я несу бумагу и карандаш. Манана усаживается поудобнее и старательно — она ведь еще первоклассница, хотя вот уж месяц, как перешла во второй, — выводит под мою диктовку: «Я, Манана Чархалишвили, даю Рати слово не ябедничать, а если наябедничаю хоть раз, пусть не берет меня больше в кино. Пишу сама. Рати не подсказывал, не диктовал и не грозился. Манана». Это короткое соглашение не умещается на одной тетрадной странице, и мы продолжаем писать на обороте. Потом я аккуратно складываю лист вчетверо, прячу между страницами «Робинзона Крузо» и тихо говорю себе: «Обещание сто пятидесятое».
На кухне продолжается объяснение — Манана примчалась уже с родника, в один миг обернулась. Старается.
— Мам, а на ферму я больше не пойду, — говорит она, запыхавшись.
— Да… — Мама тянет с ответом. — И на ферму не пойдешь, и в кино тоже…
Манана молчит.
— Завтра не пойдешь, а там поглядим… Проснется Рати, посоветуюсь с ним.
— Всё Рати, Рати! — возмутилась Манана. — Чего это все его спрашивать!
— Я не сплю, мам! — подал я голос.
— Не спишь, так вставай, сколько можно валяться! Неужто есть не хочешь?
Манана прибежала ко мне:
— А ты соня, а ты соня!
Я улыбнулся ей, погладил по голове.
— А ты в кино не пойдешь!
— Что ты выдумываешь! — вспыхнула Манана.
— Ну хорошо, хорошо, не дуйся, пошутил я. — Мне стало жалко ее, я погладил по волосам и поцеловал в щечку. — Не вешай нос, возьму завтра в кино, а теперь иди налей мне в рукомойник воды.