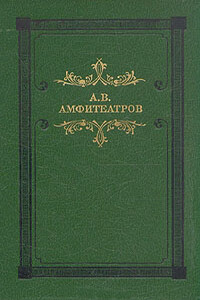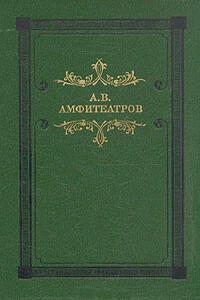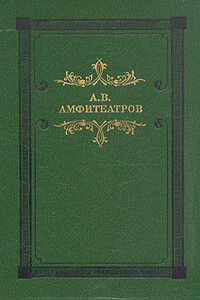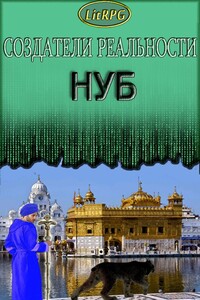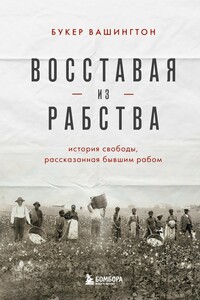Предсвяточное событие Белокаменной – смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в «Московских ведомостях», я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:
– Как же это? Захарьин, сам Захарьин – и вдруг умер?!
Захарьина у чужого смертного одра все привыкли воображать себе, но Захарьина на его собственном смертном одре всякому представить дико.
Старинное качество Москвы: она очень быстро охладевает к памяти своих знаменитых покойников и забывает их, но, в первых взрывах надгробного рыдания, она – неутомимая и самоотверженная плакальщица. Памятуя похороны Алексеева, Аксакова, Каткова, Рубинштейна, я ждал и теперь сильного, всемосковского, так сказать, энтузиазма печали. Помните, как в «Антонии и Клеопатре» возвещают смерть Антония, и весть эта встречает недоверие: «Не может быть! Если бы Антоний умер, то полсвета потряслось бы на своих устоях, и Африка сбросила бы с лица своего всех львов своих». Захарьин – для Москвы – был фигурою огромного значения. Однако и его смерть не вызвала трясения в устоях света, и по поводу его смерти львы не только в Африке, но даже и на воротах Английского клуба на Тверской не были обеспокоены. Прямо удивляться приходилось, с каким равнодушием приняли москвичи сообщение, что не стало их врача-фауматурга – несомненно, одного из самых солидных китов, на которых держался всероссийский интерес к современной Москве.