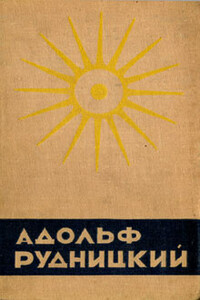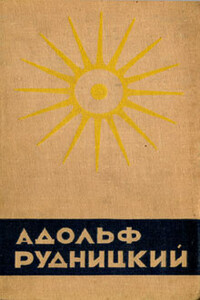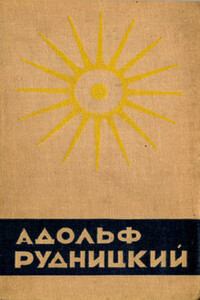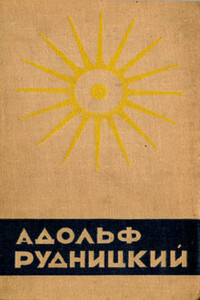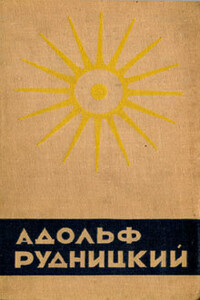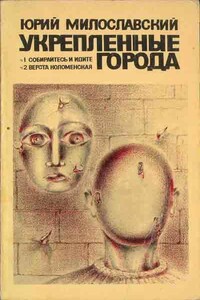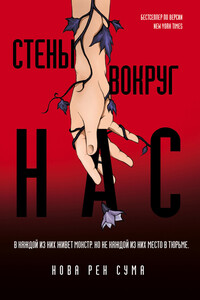Мой друг, обанкротившийся торговец, Северин Б., владелец одного из деревянных домиков в Юзефуве под Варшавой, как-то сказал мне:
— Не могу на тебя смотреть! Ты совсем раскис, вот уже много месяцев не берешься за перо; не прерывай меня, пожалуйста, доводы твои не убедительны. Не знаю, что о них сказать; я в таких вещах не разбираюсь; вижу только одно: Варшава тебе не впрок, может быть, поживешь в Юзефуве? Там все условия, чтобы собраться с мыслями: покой, свежий, прозрачный воздух… Поезжай хоть сейчас. Комната там с печкой, в сарае всегда найдутся дрова. Можешь топить печь, когда и сколько захочешь.
Такого рода разговор мы вели уже не в первый раз. В моей писательской судьбе это были нелегкие дни. Все не ладилось. Причины этого слишком сложны, чтобы их объяснить в нескольких словах. Впрочем, сейчас это было бы и ни к чему.
— В этой, с позволения сказать, вилле, — продолжал Северин, — у тебя будет сосед. Он портной. Твой ровесник, ему лет двадцать шесть. Из них семь провел в тюрьме. Сейчас он в Юзефуве, из тюрьмы его выпустили по состоянию здоровья. Чахотка. Ты знаком с Тересой, «тетушкой всех заключенных»? В конце лета она пришла ко мне и говорит: «Дай ключ, остальное тебя не касается». И отвезла больного в Юзефув. Он там уже третий месяц. Зовут его Иоэль. А фамилия какая-то трудная. Во всяком случае, для меня. Поездка эта, — закончил Северин, — может оказаться для тебя полезной. В конце концов и в этой дыре клокочет жизнь, так почему бы тебе не познать ее?
Юзефув — это сосны и песок. На шаг от узкоколейки пески такие, что нога вязнет по щиколотку. За заборами среди прирученных сосен прячутся безобразные деревянные домики, смахивающие на сараи. Такие строения можно встретить разве только на Балутах. Лодзинские фабриканты понастроили для своих рабочих такие же будки, какие варшавские мелкие домовладельцы, лавочники, парикмахеры и сторожа сколотили для себя. Строили для себя, а дело кончилось тем, что сами теснятся в жалких клетушках, а остальное сдают, заломив непомерную цену, летом — людям обеспеченным, зимой — пенсионерам. Лишь бы подработать.
С наступлением лета сюда съезжается вся Варшава. Она привозит прокопченные дымом легкие, издерганные нервы, кастрюли и кровати. Расстилает пледы на чахлой траве, заводит патефоны, достает карты для игры в бридж — и приступает к отдыху. Для полноты сиесты панны из Муранова привозят ящики книг. На здешнем вокзале, напоминающем птицу с распростертыми крыльями, громыхая несессерами, в которых хранятся кисточки и мыло для бритья, появляются парикмахеры с Твардой.
Новые силы берут Юзефув в свои руки; дух стяжательства превращает пустовавшие магазины в павильоны с газированной водой, в читальни, в танцевальные залы с пронзительным джазом. Неутомимая реклама — родная сестра стяжательства — разукрасила заборы и столбы цветастыми объявлениями о дешевых и выгодных пансионатах (пятиразовое питание, вкусное и обильное!), об элегантных парикмахерах, о модных маникюрах и педикюрах без боли, о превосходных прачках, о мороженом всех сортов и на любой вкус. Девицы щеголяют в длинных шелковых брюках, те, что поизящнее, — в шортах. Но и те, что в коротких, и те, что в длинных брюках, подставляют свои тела солнцу с самоуверенностью видавших виды женщин. И вот в конце концов эта местность, гладкая, как стол, и безобразная, как улица Пшескок, наполняется голосами милых пустяков, сейчас здесь их, правда, не называют милыми, но такими они останутся в памяти.
Летом Юзефув процветает в самом широком смысле этого слова. Жизнь кипит и на вокзале, напоминающем птицу, готовую к полету, и за оградами. В полдень раздается дурманящий зов репродукторов. Но настоящее безумие еще впереди. Вечером тощие музыканты с землистыми лицами, в белых костюмах, нацепив маски и сразу превратившись в негров с красными, словно малиновый сок, губами, возвещают о начале всеобщего безумия, которое хохочет в убийственном фокстроте, причитает в заунывном танго, грустит в изысканном бостоне, пенится весельем в куявяке. Юзефув живет лишь два месяца в году, но, как говорится, на все сто. Впрочем, любители могут найти здесь и тишину.
Песок возле узкоколейки, тот самый, в котором нога вязнет по щиколотку, ночь превращает в серебристую реку. Бродишь по этому серебру под легким, словно муслин, ветерком, уставившись широко открытыми глазами в небо, и душу охватывает неизъяснимое чувство. Бродишь молча. И большой светлый месяц льет на землю тишину.
Но не проходит и двух месяцев, как девицы в длинных и коротких брюках вдруг исчезают, благоразумные владелицы читален вместе со своими философски настроенными мужьями убирают книги с полок, элегантные парикмахеры с хорошими рекомендациями вдруг вспоминают о существовании шляпы — этой забытой и странной принадлежности моды — и чинной, изящной походкой, соблюдая правила бонтона, семенят в сторону двукрылой станции; из киосков с газированной водой выносят последние сифоны, а бледных, тощих музыкантов нет уже и в помине! Все едут домой, и в Юзефуве становится безлюдно. Кое-кому такое безлюдье даже нравится. Но в один прекрасный день тех, кто так радовался внезапно наступившей тишине, вдруг охватывает испуг, им приходит в голову блестящая мысль, что конец отпуска можно отлично провести где-нибудь в районе Театральной площади, и они начинают поспешно укладывать вещи. Должно быть, уже успели забыть о том, что только неделю назад опрометью бежали оттуда.