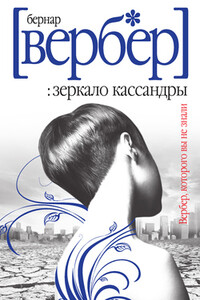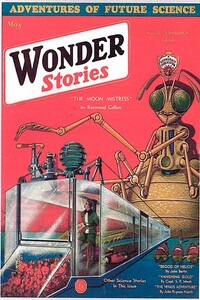Леонид вошел в безмолвное опустевшее здание института. Вахтер молча и удивленно взглянул на позднего посетителя, но ничего не сказал и даже не попросил пропуска, потому что знал в лицо каждого преподавателя, а уж этого круглолицего, краснощекого с кудрявыми бакенбардами как было не запомнить.
Свет в коридорах был уже погашен, остро пахло свеженатертыми воском полами. Леонид почти ощупью добрался до кафедры. Открыв двери, нашарил на стене выключатели и зажег обе потолочные люстры.
Знакомая обстановка — восемь стандартных письменных столов, чертежный станок, отдельный столик с "Электроникой", зеркало на стене подле второй двери, ведущей в кабинет заведующего кафедрой Варанкина Виктора Павловича.
Леонид присел к своему столу, включил настольную лампу, устроив в комнате настоящую иллюминацию. При ярком свете он чувствовал себя свободней, решительнее.
Открыв верхний ящик стола, Леонид извлек из него и положил перед собой пухлую папку в ярко-зеленом дерматиновом переплете. Он казался себе вполне спокойным, продумавшим все заранее. И потому с досадой заметил, что пальцы, развязывавшие тесемки, плохо слушаются его. Что ни говори, а в папке покоился труд почти пяти лет. И какой труд! Двумя этажами ниже в лаборатории гидравлики стояла установка для штамповки с помощью гидравлического удара. Леонид сам проектировал ее. Под руководством Варанкина, конечно. Более того, сам добывал необходимое оборудование. За газовым лазером ездил в Ленинград. А как приходилось канючить шланги в строительно-монтажном управлении!
Вместе с лаборантами он варил каркас, нарезал резьбу, месил цементный раствор для фундамента. Позже занимался монтажом тонкого и сложного оборудования, тарировал датчики, настраивал осциллографы, разрабатывал методику эксперимента…
А теперь все это вдруг оказалось ненужным, лишенным для него, Леонида, всякого смысла. Четыре года были потеряны впустую. Как щепку ручьем, его нечаянно занесло сюда, на кафедру гидравлики. Четыре года он был здесь инородным телом, четыре года закрывал на это глаза и только сейчас нашел в себе мужество признаться в самообмане…
…Однако когда он разорвал надвое титульный лист отпечатанной на машинке диссертации, ему показалось, что по сердцу его чиркнули стеклянным осколком, этаким крошечным, но острым, как лезвие бритвы. На мгновение он съежился от боли, но презрение к самому себе заставило его тут же оправиться, встряхнуться. С ожесточением принялся он полосовать лист за листом, швыряя обрывки в корзинку. Часть обрывков, не долетая до корзины, белыми птицами оседала вокруг нее на полу.
С каждым порванным листом внутри Леонида все каменело, сжималось в давящий свинцовый комок.
Наконец папка опустела и она как-то странно поразила Леонида своей пустотой. Более четырех лет наполнял он ее по крохам, и вот перед ним пустые корки, откинутые клапаны, перекрученные и засаленные от долгого употребления тесемки, — все это оболочка, лишенная плоти.
Леониду почудилось, что не папку опустошил он, а самого себя. В смятении уставился он на дело рук своих — на корзинку, доверху набитую тем, что еще час назад было диссертацией. Углы бумаги торчали между прутьев корзинки, отчего она походила на большого белого дикобраза.
Итак, он, Леонид, уходил из науки. Он знал немало примеров того, какими трудными дорогами приходили в науку ее подлинные творцы, но как уходят из науки на его памяти примеров не было.
Леонид заставил себя подняться на ноги. Несколько шагов до двери потребовали от него немалых усилий. Он покосился на зеркало и не сразу узнал свою растерянную физиономию с печальными ("коровьими" — как он их сам называл) глазами. И все продолжал топтаться у двери, не решаясь выключить свет, хотя рука его уже нащупала выключатель.
Его удерживала корзина с обрывками бумаги.
Обращенная в груду бумажных клочьев, диссертация неожиданно обрела какую-то неведомую власть над Леонидом, какой-то новый и очень важный для него смысл, не имеющий отношения к той сути, которая была изложена на двухстах шестидесяти трех отпечатанных на машинке и ныне покоящихся в мусорнице страницах.
Раскаяние в совершенном?
Нет, никакого раскаяния Леонид не испытывал. Окажись сейчас диссертация снова целехонькой, он бы, не задумываясь, снова уничтожил ее, вот так же — листик по листику.
Что же тогда произошло, пока он уничтожал диссертацию? Какие подспудные мысли ворочались в это время в его голове? С чего это навалилось на него мучительное и тревожное беспокойство, страх потерять что-то действительно ценное, без чего жизнь может оказаться лишенной всякого смысла?
Леонид поежился, представив себе, какой переполох на кафедре вызовет его поступок! А как будут изумляться его друзья, как заахают его многочисленные братья, сестры, тетки, дядья. Не говоря уже о родителях. И ему стало совсем уж худо от предстоящего объяснения с Инной, женой, — ох, какие сделает она глаза, как прижмет свои узкие музыкальные ладони к щекам. Еще бы! Инна и во сне видела своего молодого муженька в ученом звании. Но иначе поступить он не мог.
Да, не мог.
То, что случилось сегодня, зрело в нем подобно злокачественной опухоли все четыре минувших года. Чашу терпения переполнил разговор с Варанкиным, научным руководителем Леонида.