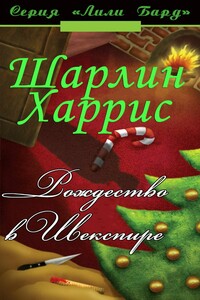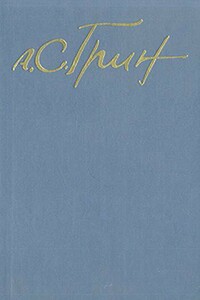Москва, специализированное лечебное учреждение закрытого типа. Через десять лет после описываемых событий.
– Вы ее всё-таки развязали? – спросил Коновалов, сонно всматриваясь в толстое стекло с зеленоватым отливом и, кажется, даже мелкими пузырьками кое-где.
Сухонький, воробьиной комплекции и такой же клювоносый доктор хихикнул, поправил очки; Коновалов знал, что руководит тот Дачей уже четырнадцать лет, с самых-самых проблесков нулевых – срок солидный, бестия хитрая, учитывает всё!
– По вашей просьбе… – доктор обнажил зубы, маленькие, мышиные, остренькие – Чтобы она чувствовала себя свободно.
– А в остальное время она всегда в смирительной рубашке?
– Пижа-ме – вежливо, но твердо поправил главврач – Лечебно-профилактическая пижама номер 3. Видите ли, обычную одежду она уничтожает. Она все на себе уничтожает.
Коновалов продолжал смотрел сквозь стекло, не мигая: так всегда делал, когда вникал в суть предстоящего разговора, моделировал его, просчитывал ходы и предвидел увертки. Так как любой сидящий в комнате со скудной обстановкой – стол и два стула, всё даже не привинчено, а приварено к полу; мог наблюдать только непроницаемо-коричневый слой тонировки, то разглядывать его с другой стороны можно было бесконечно долго и совершенно свободно; что коновалов и делал.
Начинал он обычно с головы. Так как пациентку обрили на стандартную длину «один миллиметр», то форма черепа ее прочитывалась; «яйцеголовая», иначе не скажешь – купол черепа сходился вверх прямым, хорошим сводом, совершенно правильной острой формы, лоб высокий, такой же белый, как и незагоревшая кожа под состриженными волосами. Высокие дуги бровей, не нарисованных – на «Даче» вряд ли позволили бы пользоваться косметикой, а своих, натуральных, невыщипанных; глаз Коновалов хорошо не видел, не тот разворот, она сидела в три четверти, как будто зная, что за ней наблюдают – и курила, закинув ногу на ногу; сигареты ей принесли хорошие, но не дамские – французские Gitanes.
Коновалов отметил кулачок выпирающего подбородка, ровную прямую шею, жилистую шею – такую нелегко пережать даже силовым приемом, вывернется; небольшую, выпуклую грудь и форму сосков – нерожавшая, это видно, так бы, отдав расписанный природой запас молока, грудь эта сделалась бы плоской, прилипла бы к ее худому гибкому телу… Женщина сидела на стуле абсолютно голая; блик от лампы скользил по фарфоровому бедру с четким, хорошо выраженным изгибом: как на каком-нибудь «Крайслере» семидесятых. Подумал коновалов, он хорошо знал американские машины той эпохи и любил их, у самого когда-то еще по студенчеству, появился Chrysler Le Baron, первый в городе, хотя откровенно говоря, хлам жуткий, $65 на автосвалке… Промежность женщины под худым, впалым животом, мерно двигающимся, играющим точкой пупка, была закрыта ватными тампонами, бинтами, чем-то еще; медицинским скотчем прилеплено к телу, испачкано темным, догадываемся, чем…
– Что у нее с половыми органами? – спросил он казенно, прозвучало еще более грубо, как будто матом; но и по-другому не скажешь.
Главврач пожал плечами.
– Дважды пыталась… лишить себя, так сказать, биологического статуса женщины. Один раз канцелярским ножом в кабинете заведующего, а потом украла ножницы с поста. Два раза зашивали.
Коновалов молчал, он еще не закончил; на темном металлическом полу со следами сварных швов очень четко выделялись её ступни – тоже белые; можно сказать, узловатые, если бы перед Коноваловым была старуха; но нет, просто чуть утолщенные, выпуклые фаланги длинных и цепких, как крючья, пальцев стопы, широкий взъем, узкая пятка, средний палец, а не указательный – длиннее! Эту анатомическую особенность Коновалов сохранил, положил в копилочку; он никогда ее не упускал и прощупал глазами дальше – от тонкой аристократической щиколотки до коленки бугристой, с мышцами, отметил развитые, тугими холмиками, икры спортсменки, еще раз оценил таз – узкий, не рожала точно, может быть, и бесплодна, может, с этим связано? Он повернулся к главврачу:
– Тогда я начну. Альберт Моисеевич, только – как договорились. Никаких ограничений. Никакого вмешательства.
– У нас в два часа процедуры по графику – тусклым, безжизненным голосом проговорил медик и было видно: pro forma, чтобы хоть чуть-чуть отстоять свою самость перед незваным гостем.
Но Коновалов уловил это с первых букв, с артикуляции собеседника; уже повернулся спиной и шел к выходу из комнатки наблюдения, чтобы через несколько секунд взяться за холодную металлическую ручку двери той самой комнаты для разговоров с пациентами. Наверное, с особо опасными пациентами.
Из-за стен, выкрашенных в серебристо-синий свет какой-то особой краской даже желтизна электрического светильника под потоком не спасала; все казалось облитым мертвенно-сиреневым, и нагое тело женщины тоже; прямо портрет Иды Рубинштейн, отметил про себя Коновалов; посчитал количество окурков в серебристой фольге на столе – пепельницы не дали – получается, она тут минут десять, а курит одну за одной.