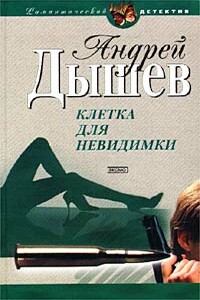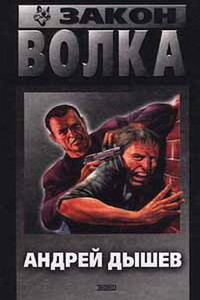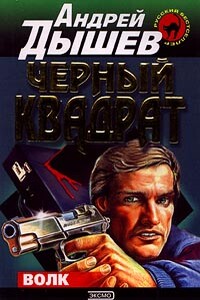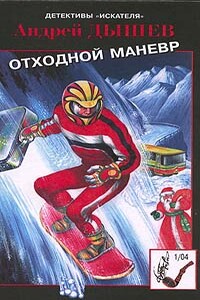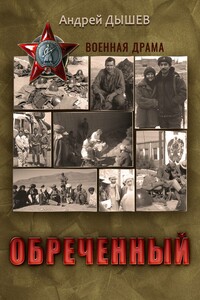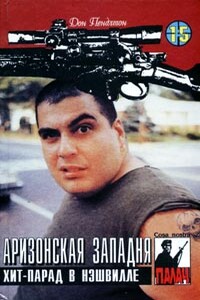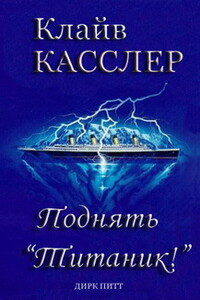Я, майор ВДВ Андрей Власов, стою у зеркала, смотрю на себя, то склоняя голову набок, то приподнимая лицо кверху: «Какая огромная разница между тем, что о человеке думают люди, и тем, что он думает о себе сам».
«Соседи предполагают, что я супермен…»
Я сгибаю руку в локте, напрягая бицепс, улыбаюсь.
«Подчиненные уверены, что я никогда не испытываю чувства страха…»
Я нахмуриваю брови и негромко, чтобы за дверью не услышала жена, рычу.
«Начальство считает, что я способен выполнить любое задание, разровнять Гималаи, утопить Японию и без единого выстрела захватить Соединенные Штаты…»
Я сказал «гык» и нанес резкий удар кулаком по полотенцу, висящему на перегородке. Полотенце словно крыльями взмахнуло, скомкалось и упало на мокрое дно ванны.
– Андрей! – донесся из-за двери голос жены. – Ты там живой? Что ты кряхтишь?
«А на самом деле… на самом деле никто не знает, как мне иногда бывает страшно, как иногда трудно сделать так, чтобы зубы не стучали и не дрожали руки. И смотрю я на бойцов, которым надо через минуту подняться под пули, и думаю: молодость – это наивность. Им не страшно, потому что они еще не знают, чем все это может закончиться… Я им немного завидую, мне кажется, что они не испытывают такого липкого, тошнотворного, поносного страха, какой испытываю я. У меня нет никого, кто был бы опытнее и мудрее меня, мне не на кого положиться, кроме как на себя самого. А у бойцов есть я – храбрый, всесильный супермен, рядом с которым можно расслабиться в полной уверенности, что все закончится хорошо… Слава богу, они не догадываются, как я на самом деле боюсь, как я проклинаю судьбу и лелею в душе только надежду на чудо».
– Тебе звонил Кондратьев, – сказала жена, когда я с полотенцем на шее вышел из ванной.
Мужчины смеются, дразнят женщин, когда они выходят из ванной с намотанным на голову, как тюрбан, полотенцем. А сами-то! Вот спрашивается, зачем мужикам надо выносить из ванной мокрое полотенце на плече? Почему из ванной надо выходить именно так? А просто в руке его нести нельзя? Оно что – тяжелое? От воды или грязи? Или это демонстрация того, что я чист, помылся наконец-то, первый раз за минувший квартал, и теперь со мной можно и безопасно иметь дело…
Жена (ее зовут Мила), маленькая, милая, уютная, полная противоположность мне, стояла передо мной и сжимала в руке трубку телефона, как если бы это была граната с вырванным кольцом. Заглядывала в глаза. Она – не боец. В том смысле, что она знает про меня все, и разыгрывать перед ней супермена со стальными нервами нет смысла. А уж особенно, если звонил Кондратьев.
Кондратьев – начальник регионального отдела специального назначения, в недавнем прошлом работал в контрразведке и в группе «Вымпел». Я понятия не имею, почему я, российский офицер-десантник, работаю на ФСБ. Как-то незаметно и плавно так получилось. Сначала меня наградили, потом назначили командиром отдельного батальона, потом вывели в прямое подчинение главкому ВДВ, а потом я случайно узнал, что все мои недавние спецоперации в Венесуэле, Иране и Норвегии были спланированы в центре специального назначения ФСБ. В подробности я не вникаю. Во-первых, потому что все равно от Кондратьева правды не добьешься. А во-вторых, я вряд ли что-то пойму. У меня мозг устроен своеобразно. Он различает только белое и черное, врага и друга, жизнь и смерть, любовь и ненависть. Полутонов и переходов не видит напрочь. А в ФСБ – одни сплошные полутона и переходы.
– Он сказал: ровно в десять тридцать на том же месте… Только не волнуйся, умоляю тебя. Может быть, это просто…
– Сто пудов просто! – согласился я.
Я вру жене всегда. Почти всегда. Во всяком случае, в той части жизни, которую занимает служба. Если мне предстоит лететь на спецзадание, я говорю, что еду на рыбалку. Мои незадействованные в мероприятии бойцы носят ей рыбу из ближайшего супермаркета. Мороженую, так как другой у нас нет. Говорят, это вам Андрей с рыбалки передал. Если с операции меня привозят на носилках, я говорю, что перебрал маленько, сам дойти не смог. Если на моем бренном теле Мила находит свежие раны и царапины, я говорю, что рыболовные крючки, зараза такая, очень острые. Мила внимательно смотрит мне в глаза, кивает и говорит неизменное: «Ну да. Конечно. Я так и поняла». И больше никогда не пытает меня, не возвращается к этой теме. Только глаза у нее в эти дни красные, она по целому флакону визина заливает.
И еще она очень увлекается иконами. Как мне ехать на очередную рыбалку, так в доме появляется несколько образков с какими-то тоскливыми физиономиями. Мила расставляет их по углам, перед книжками, между посудой. Я рассматриваю иконы, стараюсь понять смысл безжизненного взгляда многочисленных рыбьих глаз. «Этот похож на моего бывшего начсклада, прапорщика Балайко, – говорю я. – Проворовался, собака такая… А этот смахивает на капитана Фурсенко, начальника строевой части…» – «Не богохульствуй», – вяло ругает меня жена.
Я в Иисуса не верю. То есть его существование в далеком прошлом, конечно, не исключаю, но в то, что он – наш бог, ни-ни. С Милой на фабрике до недавнего времени работала молодая женщина. Был у нее ребенок, 7 месяцев, девочка. На пешеходном переходе коляску сбил пьяный сержант милиции. Несчастная женщина чуть умом не тронулась. Соседки к ней священника приводили, чтобы успокоил. И тот говорил: бог дал тебе испытание, чтобы ты преодолела его и тем самым очистилась на пути к царствию божьему. Я вот что по этому поводу думаю: на хрен мне такой бог, который дает и без того несчастным женщинам такие скотские испытания! Ни хера себе защитник! Угробил малютку, чтобы молодая мать корчилась в невыносимых муках! И ради чего? Ради нравственного очищения? Да эта несчастная уже стала святой в этой поганой жизни! Она уже как в аду: восьмилетка в каком-то Задрищенске, потом техникум, фабрика, по холодным и грязным общагам с маленьким ребенком – одна, без мужа, полуголодная, холодная; она никогда не гуляла, не пила, не курила, горбатилась ради скудной зарплаты и койки в общаге, собирала копейки ребенку на будущее. Мало этих страданий было богу? Он решил уж совсем до конца ее испытать? Раздавить дитя, им же данное? Эх, люди, люди…