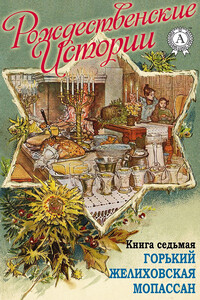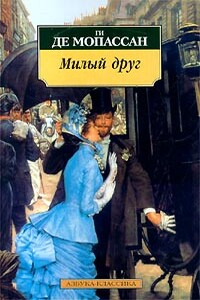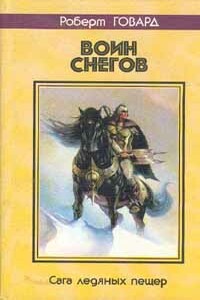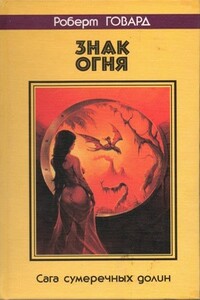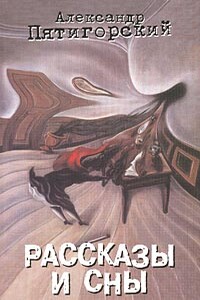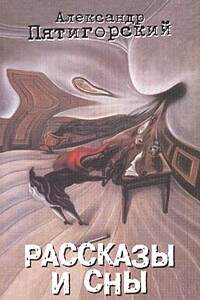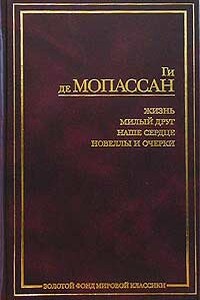Сколько воспоминаний о днях молодости возникает у меня при первой нежной ласке весеннего солнца! Вот возраст, когда все приятно, весело, когда все чарует и пьянит. Как чудесны воспоминания о былых веснах!
Помните ли вы, старые друзья, мои собратья, эти годы радости, когда жизнь была сплошным торжеством, сплошным весельем? Помните ли вы дни бродяжничества в окрестностях Парижа, нашу ликующую бедность, наши прогулки в зеленеющих лесах, опьянение голубизной воздуха, кабачки на берегу Сены и наши любовные приключения, такие банальные и прелестные?
Я хочу вам рассказать сейчас одно из этих приключений. С тех пор прошло двенадцать лет, — и оно кажется теперь уже таким далеким, таким далеким, словно произошло в первой половине моей жизни, перед поворотом, перед тем проклятым поворотом, откуда я вдруг увидел конец пути.
Мне было тогда двадцать пять лет. Я только что приехал в Париж, служил в одном из министерств, и воскресенья казались мне необыкновенными праздниками, полными счастья, хотя в эти дни никогда ничего особенного и не происходило.
Теперь для меня каждый день — воскресенье. Но я сожалею о том времени, когда у меня было только одно воскресенье в неделю. Как оно было прекрасно! Я мог истратить в тот день шесть франков!
В то утро я проснулся рано, с ощущением свободы, которое хорошо знакомо всем чиновникам, с ощущением свободы, отдыха, покоя и независимости.
Я растворил окно. Была чудесная погода. Над городом простиралось голубое безоблачное небо, полное солнца и ласточек.
Я наскоро оделся и вышел, намереваясь провести весь день в лесу, подышать запахом листвы; ведь я деревенский житель и вырос среди полей и лесов.
Париж просыпался радостно, все в нем сияло и горело. Блестели фасады домов; в клетках распевали во все горло канарейки швейцаров; веселье порхало по улицам, светилось на лицах, сеяло всюду смех, — словно все живые существа и даже все неодушевленные предметы испытывали какую-то тайную радость под лучами восходящего солнца.
Я направился к Сене, чтобы сесть на Ласточку и ехать в Сен-Клу.
Как я любил эти минуты ожидания парохода на пристани! Мне казалось, что я сейчас уеду на край света, в новые чудесные страны. Я наблюдал, как пароход появлялся вдали, под аркой второго моста, сперва совсем маленький, осененный клубами дыма, потом вырастал все больше и больше и становился в моем воображении огромным морским судном.
Он причалил, и я сел на него.
На палубе было уже немало воскресной публики в праздничных, бросающихся в глаза костюмах; пестрели ленты, краснели толстые лица. Я расположился на носу парохода и стоял, глядя, как бегут мимо набережные, деревья, дома, мосты. Внезапно передо мной появился большой виадук Пуен-дю-Жур, перегородивший реку. Здесь кончался Париж и начиналась деревня, а Сена позади двойного ряда каменных арок виадука внезапно расширялась, как будто ей возвратили свободу, и, сразу превратившись в прекрасную реку, мирно текла на просторе через равнины, у подножия лесистых холмов, среди полей, вдоль густых лесов.
Пройдя между двумя островами, Ласточка повернула к зеленому холму, на котором теснились белые дома. Чей-то голос возвестил: «Нижний Мёдон», а потом, когда пароход двинулся дальше: «Севр», и еще дальше: «Сен-Клу».
Я слез и быстрым шагом прошел через городок по дороге, ведущей в лес. Я взял с собою карту окрестностей Парижа, чтобы не запутаться в дорогах, пересекающих по всем направлениям рощи, где обычно гуляют парижане.
Войдя под сень деревьев, я стал изучать по карте намеченный путь, и, кстати сказать, он показался мне чрезвычайно простым. Надо было повернуть направо, потом налево, потом еще раз налево, и к вечеру я попал бы в Версаль, где мог пообедать.
И я медленно пошел под сенью листвы, вдыхая сладостное благоухание молодой зелени и древесных соков. Я шел потихоньку, забыв о своем бумажном хламе, о канцелярии, о начальнике, о сослуживцах, о папках с делами, и думал лишь о счастливых событиях, несомненно, ожидавших меня впереди, о своем будущем, подернутом дымкой неизвестности. Множество воспоминаний детства, пробужденных лесными запахами, проносилось у меня в голове, и я шел, опьяненный ароматом, живым трепетом, колдовскими чарами леса, согретого жарким июньским солнцем.
Иногда я присаживался на каком-нибудь пригорке, чтобы полюбоваться ковром полевых цветов, названия которых были мне знакомы с давних пор. Я узнавал их, как будто это были те самые цветы, которые я видел когда-то у себя на родине. Желтые, красные, лиловые, нежные, маленькие, — они то поднимались на длинных стеблях, то стелились по земле. Насекомые самой разнообразной окраски и самой разнообразной формы — то короткие и толстые, то длинные, причудливые микроскопически маленькие чудовища, совершали мирные восхождения по былинкам, сгибавшимся под их тяжестью.
Затем я поспал несколько часов в ложбине и, отдохнув, подкрепив силы этим сном, продолжал путь.
Передо мной открылась восхитительная аллея, где сквозь редкую листву на землю просачивались, как дождь, капли солнечного света, падая на белые маргаритки. Безлюдная, немая аллея казалась бесконечной. Только крупный жужжащий шершень одиноко летел по ней, иногда останавливался, чтобы напиться из цветка, сгибавшегося под его тяжестью, почти тотчас же пускался в дальнейший путь и снова садился передохнуть неподалеку. Он летел, огромный, на прозрачных и несоразмерно маленьких крылышках и как будто был сделан из темно-коричневого бархата в желтую полоску.