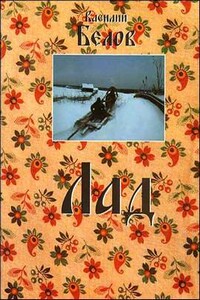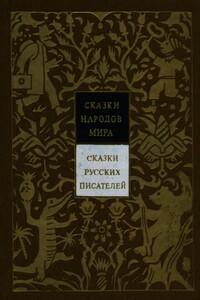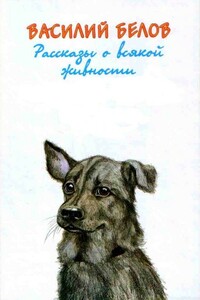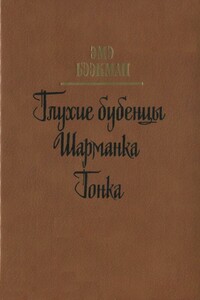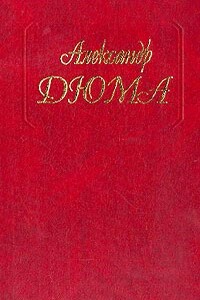Лодка плывет по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин вплывает прямо в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая деревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные черными прошлогодними бороздами, — все это плавится и мерцает. Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви. Он торопится, но лодка словно примерзла. Его тревога нарастает, мускулы почему-то немеют и не подчиняются. «Иди сюда! — слышит он голос Тони. — Иди скорее, будем ставить скворечник!» Он не может больше, он должен ставить скворечник. Сейчас он пойдет прямо к ней по солнечной широкой воде, надо поставить скворечник, скорей, сейчас же, потому что скворцы уже прилетели и в небе поет жаворонок. Он поет высоко-высоко, невидимый, настойчивый. И вдруг это пение оглушает, разрывает Зорину все нутро…
Он просыпается, ошарашенный от мерзкого, оглушительного звона будильника. Утро. «Да заглохнешь ли ты наконец?! О, черт…» Он с ненавистью прихлопывает эту гнусную механизацию. Оглядывается. Ага, все ясно. Дела настолько плохи, что даже спал он, не снимая брюк. И на раскладушке. Душа у него болит, но он бодрится, пробует даже что-то насвистывать и открывает форточку. Прислушивается к двери в смежную комнату: «Тонь, а Тонь?» В ответ — ни гугу, полное, так сказать, игнорирование. «Ну, что ж… — думает он. — Поглядим, что она будет делать дальше».
В комнате, где он спал, разумеется, изрядный бардачок. Раскладушка стоит посреди пола. Ботинки валяются в соседстве с Лялькиным мишкой, носами в разные стороны. На стуле висит какая-то дамская штуковина. Вечно эта сбруя раскидана где попало! Просто удивительно, как быстро все меняется, думает Зорин. Стоило появиться на свет Ляльке, и у супруги начисто улетучилась всякая стыдливость. Раскидывает свои штуки у всех на виду, даже при чужих…
Зорин проникается благородством и ставит мишку на детский столик. Складывает раскладушку и делает еще одну попытку восстановить отношения:
— Тонь, ты спишь?
В ответ слышится нечто мощное и уверенное в правоте:
— Пьяница несчастный!!
— Да? — Это «да» звучит глупо. Зорин сам это чувствует и чмокает языком. — Но, Тонь…
— Домой можешь не возвращаться.
Ему жалко будить Ляльку. До садика Ляльке целый час. Лялька может спать еще тридцать минут. Он бы сказал кое-что, но ему жалко будить Ляльку. Жена и так сделала из девочки ходячего робота. Укладывает в кровать, когда Ляльке хочется прыгать на одной ножке. А когда у ребенка глаза совсем слипаются, велит рисовать домики. Девочка любит суп с черным хлебом — на черный хлеб наложено вето. Даже писать и какать изволь в определенное время суток. Черт знает что творится!
Гася раздражение, с решительным видом Зорин идет умываться. Гул клозетной воды похож на извержение Везувия. «Или гул этого… Ну, как его? Ниагарского водопада. Ни в жизнь не видал ни того, ни другого. И вообще… „Можешь не возвращаться“! А что я такого сделал? Смех на палочке… Прежде всего надо почистить зубы. Ах, черт! Опять выдавил в рот крем для бритья. Тоже мне, деятель…»
Голова у него почти свежая, зато в желудке затаилась тягучая противная пустота: «Вакуум какой-то. Хорошо, что пили одно сухое. Они с Голубевым раскачали-таки Фридбурга, наш Миша под конец завелся. Даже до танцев у него дошло. Побриться мне или нет?
Он решает не бриться и идет на кухню: „Так. Нормально. Вчерашние пельмени. Трудно рассчитывать на горячий завтрак при таких обстоятельствах, очень трудно. Скользкие, как лягухи, но есть можно… Стоп! Супруга, кажется, покинула укрепленную зону. Что-то покидывает…“
— Может, ты все же спросишь, где я вчера был?
Зорин говорит спокойно и втайне гордится своим великодушием. Но в ответ слышно, как его ботинки на второй космической скорости улетают к порогу.
— Ты же разбудишь Ляльку, — говорит он и чувствует, как улетучивается все его джентльменство.
— Тебе разве есть дело до ребенка? — она оборачивается с притворным спокойствием. — Вот новость!
— Ладно, перестань.
— Свиньей был, свиньей и останешься!
„Точь-в-точь как в итальянском кино“, — мелькает у него в голове. Его начинает трясти, он наскоро проглатывает пельменину и вплотную подходит к жене:
— Перестань!
„О, она у меня смелая женщина. Она не перестанет. Сейчас из нее полезет бог знает что, слова у нее вылетают сами. Иногда она и сама им не рада. Сейчас дойдет до моей получки, потом до кино — она не ходила в кино уже полгода. Дальше явятся Лялькины башмаки и сломанный телевизор“.
Зорин чувствует, как на виске начинает дергаться какая-то жилка.
— Чего ты орешь, ну чего ты орешь? — говорит он и с отвращением замечает, что и сам переходит на крик.
— Не хочу с тобой говорить!
— Ну и не говори! Подумаешь, цаца! Он уже взбешен, а у нее вдруг взыграло достоинство, и она спокойно произносит: