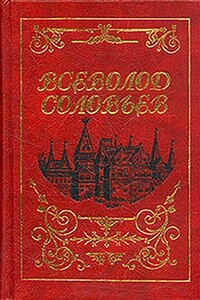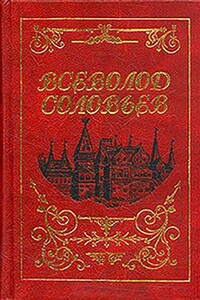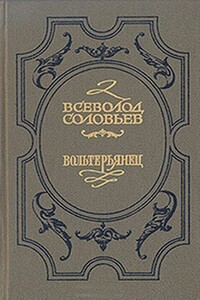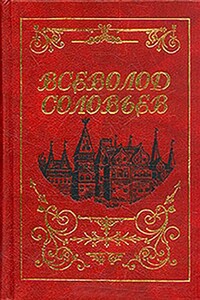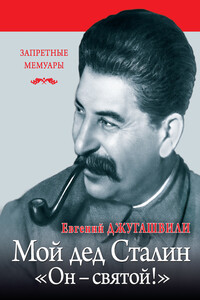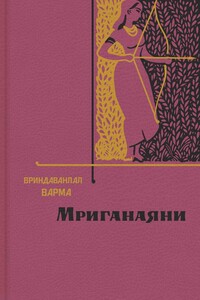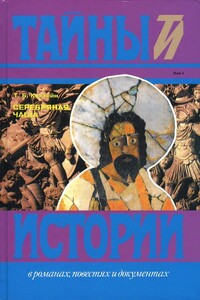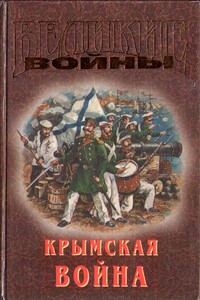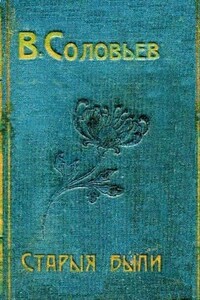Одно изъ лучшихъ воспоминаній моего дѣтства — воскресенье Начать съ того, что въ этотъ день я не долженъ былъ рано вставать и садиться за повтореніе уроковъ, очень часто плохо приготовленныхъ съ вечера. Я могъ подремать лишній часъ-другой, и въ этой утренней дремотѣ являлись всегда такія радужныя и блаженныя видѣнія.
Потомъ мало-по-малу видѣнія эти блѣднѣли, все больше и больше перепутываясь съ окружавшей обстановкой и, наконецъ, совсѣмъ переходили въ дѣйствительность. Я раскрывалъ глаза, выглядывалъ изъ-за полога моей кровати, вспоминалъ, что сегодня воскресенье — и радостное, широкое чувство наполняло меня.
Я снова скрывался за занавѣской и наблюдалъ: наша крѣпостная няня, Анна Тимофеевна, только что вынула изъ кровати моего младшаго брата и съ хорошо знакомымъ мнѣ хохлацкимъ ворчаніемъ (она была изъ Малороссіи) натягивала чулки на его маленькія толстыя ноги. Онъ барахтался, брыкался, и, очевидно, никакъ не могъ совсѣмъ разгуляться; большіе сѣрые глаза его то раскрывались во всю ширину, то опять смыкались; выраженіе круглой какъ шарикъ мордочки было самое уморительное.
Хорошенькая нянина дочка, Ариша, въ дальнемъ углу нашей большой дѣтской, умывала черненькую, худенькую сестру мою; а другая сестра, толстая, бѣлая, румяная дѣвочка, стояла уже совсѣмъ готовая, въ пышно накрахмаленныхъ юбкахъ, въ нарядномъ платьѣ, и тщательно и кокетливо причесывала передъ зеркаломъ свои бѣлокурые волосы.
Насмотрѣвшись на все это и чувствуя съ каждой секундой возроставшій приливъ радости и любви ко всѣмъ и ко всему, я вскакивалъ съ кровати, не дожидаясь няни начиналъ самъ поспѣшно одѣваться, переговариваясь и пересмѣиваясь съ сестрами и братомъ.
Вотъ и я готовъ, и спѣшу въ столовую, гдѣ за чаемъ, очевидно уже давно, сидятъ отецъ и мать. Крѣпко и громко цѣлую я бѣлую и нѣжную руку отца. Спокойный взглядъ его ясныхъ голубыхъ глазъ нѣсколько сдерживаетъ мою рѣзвость, но на губахъ его я подмѣчаю добродушную улыбку. Онъ слегка хлопаетъ меня по плечу, а потомъ поднимается съ кресла и надѣваетъ очки: признакъ, что сейчасъ выйдетъ изъ дому.
Я подбѣгаю къ матери и начинаю цѣловать ее въ руки, губы, глаза; она говоритъ что-то о томъ, что я растреплю ее и сомну, но въ то же время сама крѣпко обнимаетъ меня и цѣлуетъ. Я замѣчаю на блестящихъ черныхъ волосахъ ея нарядную наколку, замѣчаю ея шелковое, стального цвѣта, въ розовыхъ букетахъ платье и накинутую поверхъ него мѣховую мантилью.
— Что это, какъ дѣти запаздываютъ, вѣдь, ужъ пора бы вамъ и ѣхать! — обращается къ матери отецъ, беретъ шляпу и уходитъ.
Мы быстро выпиваемъ свой чай, молоко, съѣдаемъ булки и бѣжимъ вслѣдъ за матерью въ переднюю.
Та же няня Анна, та же Ариша и лакей Николай, въ сѣрой ливреѣ съ собачьимъ воротникомъ, закутываютъ насъ въ зимніе кафтанчики и салопчики. Какъ-то особенно весело распахиваются двери; себя не помня мы слетаемъ съ лѣстницы.
У подъѣзда дожидается наша просторная низенькая карета, внутри обитая яркожелтымъ бархатомъ, съ козелъ которой, ласково ухмыляясь и подмигивая, глядитъ на насъ, и въ особенности на меня, другой Николай, нашъ кучеръ, закадычный мой другъ и пріятель. Я отвѣчаю ему такими же улыбками и подмигиваніями, и въ то время какъ усаживаются мать и сестры, въ то время какъ лакей на рукахъ подноситъ къ каретѣ маленькаго брата, я сосредоточиваю все свое вниманіе на лошадяхъ: на Копчикѣ и Пайкѣ, изъ которыхъ послѣдній, несмотря на свое прозвище, ведетъ себя не особенно прилично. Онъ все какъ-то дергаетъ и то силится приподняться на дабы, то тянется укусить за ухо товарища.
— Шалишь! — отрываясь отъ перемигиванія со мною, грознымъ голосомъ восклицаетъ Николай и бьетъ его возжею.
Пайка успокоивается, лакей подсаживаетъ меня въ карету, захлопываетъ дверцы и, подобравъ полы своей длинной ливреи, вскакиваетъ на козлы. Слышится веселый скрипъ колесъ по твердому снѣгу, лошади трогаются — мы ѣдемъ въ церковь.
Обѣдня уже началась. Отецъ, пріѣхавшій гораздо раньше насъ, стоитъ на своемъ обычномъ мѣстѣ у клироса; на лицѣ его благоговѣйное вниманіе, время отъ времени онъ закрываетъ глаза и медленно крестится. Сначала я стараюсь подражать ему, тоже вслѣдъ за нимъ закрываю глаза и крещусь, повторяю про себя то, что говорится и поется.
Но скоро вниманіе мое начинаетъ развлекаться, слова священнослужителей и хора исчезаютъ, не достигая моего слуха; я разглядываю знакомые лики иконостаса, потомъ переношу свои наблюденія на окружающихъ меня, по преимуществу дамъ и дѣтей, и стараюсь угадать, что въ эту минуту думаетъ вотъ этотъ прилизанный, затянутый въ гимназическій мундиръ мальчикъ, вотъ эта завитая нарядная дѣвочка, которая то и дѣло смотритъ на кончики своихъ свѣтлосѣрыхъ ботинокъ, вотъ эта толстая дама, занявшая своимъ кринолиномъ чуть не квадратную сажень. Наконецъ, я обращаю вниманіе на стоящаго передо мною младшаго брата и начинаю дуть ему въ маковку. Онъ оборачивается ко мнѣ, улыбается, а потомъ вдругъ опускается на колѣни на коврикъ. Но я хорошо вижу, что онъ всталъ вовсе не на колѣни, не для того, чтобы молиться, а присѣлъ отъ усталости и черезъ минуту даже покачнулся и совсѣмъ задремалъ. Я тихонько подталкиваю его сзади, онъ вскакиваетъ и начинаетъ креститься. Я стараюсь снова сосредоточить все вниманіе на службѣ и въ то же время чувствую въ ногахъ и во всемъ тѣлѣ не то усталость, не то томленіе, хочется походить, немного размяться; кажется, что обѣдня какъ-то особенно на этотъ разъ тянется. Я опять отвлекаюсь, ухожу въ свои мысли, а мысли перескакиваютъ съ одного предмета на другой, перегоняютъ другъ друга, мелькаютъ отрывочно, безпорядочно. Я едва поспѣваю за этой бѣготней ихъ, совсѣмъ ужъ не сознаю окружающаго, и только прикосновеніе матери заставляетъ меня очнуться.