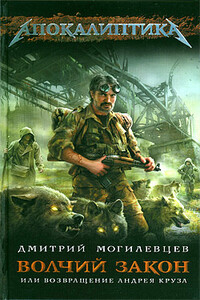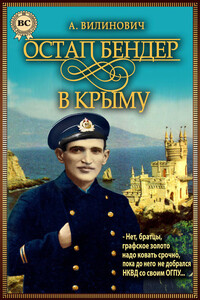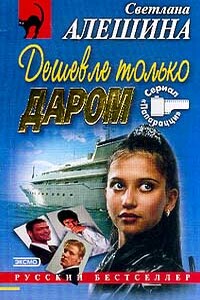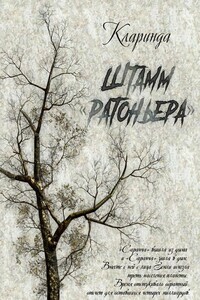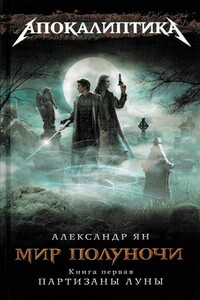Мир кончился. Не было всеобщих войн, мегатонн и ядерной зимы. Не было катаклизмов, катастроф, землетрясений и террористов. Никто не спохватился, когда подступил конец. Не ввел танки, не выставил кордонов и не забил тревогу. Незачем было. Никто не верил и не мог представить, хотя все получилось логично, закономерно и неизбежно. Когда спохватились, было уже поздно. Те немногие, кто понял случившееся, уже ничего не сумели. Мир не врезался с разгону в стену. Он увяз в болоте, распадаясь, оседая, засыпая. Самолеты не падали, потому что не взлетали. Машины не взрывались, а тихо ржавели у подъездов. Электростанции глохли, поезда замирали у перронов. Трава прорастала сквозь мостовую у роскошных витрин, но никто не торопился их бить, чтобы собрать блестящие безделушки.
За десять лет из восьми миллиардов людей на Земле осталось от силы миллионов восемь. Особенных миллионов, составленных из укоренившихся в выживании. Вкопавшихся в землю или приучившихся мчаться по ней. От способов жизни многих из них вздрогнул бы даже привычный ко всему человек двадцатого столетия. Впрочем, их, недовымерших ископаемых, осталась вовсе горстка.
Один из них утром пятого мая тридцать восьмого года, лежа на лысом холмном темени, разглядывал в бинокль поселок внизу. Живое ископаемое звали Круз. Он был в комбинезоне мусорной расцветки, ботинках забытого вида и бронежилете. Еще при Крузе имелись винтовка с лазерным прицелом и трое щенков. «Щенками» они называли себя сами, а были юнцами от четырнадцати до восемнадцати, тощими, жилистыми и похожими на щурят. Круз их боялся. Они его уважали. Они уважали всех переживших «оп». «Оп» они называли то, от чего Круз отсчитывал тридцать восьмой год. Впрочем, какой именно год от этого «опа» и что именно считать моментом «опа», Круз не знал в точности. Он считал по-своему, от «опа», произошедшего в Крузовой жизни. Не очень толковой и осмысленной жизни, заполненной метаниями, суетой и смертями.
Но теперь, на тридцать восьмом году, Круз нес с собой козырь. Большой и настоящий. Последний козырной козырь. Осталось только донести его и сыграть.
А по пути подобрать кое-что, важное и не очень. Впрочем, это «не очень» иногда осложняло жизнь. В частности, заставляло шарить по поселкам. Таким, как вот этот, под холмом.
Безобидный с виду поселок. Обычный. Такие в дни до «опа» прятались вдали от асфальтовых дорог и заводов. Заборы, утонувшие в кустах. Крыши буквой «зю». Посреди улицы — пруд с ленивыми головастиками. Столбы спьяну.
Но Круз, отметивший тридцать семь годовщин «опа», хотел отметить и тридцать восьмую. И потому не столько смотрел в бинокль, сколько слушал внутрь себя.
А выслушав, сказал:
— Хлопцы, мы туда не пойдем.
— Смердит? — спросил Левый.
— Слегка. Но не только.
— Лады, — согласился Левый и кивнул своим.
Все трое неслышно, по-волчьи, скользнули в кусты. Круз проводил их завистливым взглядом. Вздохнув, отполз. Старый уже, нескладный. Все уже не то. Только привычка и нюх с годами, пожалуй, лучше. Но это слабое утешение. Хорошо еще, щенки всегда готовы прыгнуть первыми. Им в радость. У них одно на уме.
— Старшой, идем? — донеслось из кустов.
Круз кивнул. «Старшой». Любой из них, даже Последыш, вдвое быстрее Круза. А если и слабее, в смысле бревно поднять, так не намного. Волки, мать их. Зато как старшего слушать, в мозги вбили накрепко. Не потому слушают, что Круз больше может: и спасти, и найти, — а потому, что надо так. Мир у них такой. Со старшими не меряются. Мало что старшой сопит и через кусты ломится так, что за версту слышно. Мало что в сырости иной раз и разогнуться с утра не может. Они и это видят, но на себя не меряют. Правда, у всякой монеты две стороны…
Стоп. Круз замер, и тут же застыли щенки. Без команды и не оборачиваясь. Круз повертел головой, прищурился. Что не так? Склон, кусты, молодая трава. Внизу — лесок, ползет полого до следующего гребня, округлого, мохнатого. Небо чистое, солнце.
Яп-понский бог! Вон, над гребнем, как раз там, где лагерь, дымок. Завиток серый.
Круз побежал. Не заботясь особо про шум, не прячась. Впереди, сбоку замелькали тени щенков. Люто идут, плавно. Не то что дядя старшой в бронежилете и с выкладкой.
Но у дяди сорок лет стажа марш-бросков. Дядя уже как автомат ногами перебирает. Кусты кончились, сосняк молодой. Полегче. Вверх по склону чуть медленнее, не сбиться чтоб.
Наверху встал, сопя. Точно, оттуда дымит. И ведь ни выстрела не слышали. Что ж у них такое? Чтоб Михая без выстрела взять?
Михая не взяли без выстрела. Хотя могли, если б он кому-нибудь понадобился. Михай сидел у тлеющего костра и смотрел в небо. И улыбался. Широкой, безмятежной, счастливой улыбкой. Михаю было хорошо.
— Стоять! — рявкнул Круз щенкам.
Те уже стали сами. У них тоже был нюх. Не крузовский, но верный.
— Михай! — рявкнул Круз в лицо.
Михай чуть двинул уголком рта.
— Михай! Михай! — Круз с маху шлепнул по одной щеке, по другой.
Нащупал болевую точку под челюстью, надавил. Михай улыбался. Круз полез в карман. Так, так… вот. Вытащил ампулу, содрал колпачок. Вогнал иглу в бедро, надавил.
Улыбка чулком сползла с лица. Оно сделалось землистым, серым. И глаза проснулись — в злобу и боль.