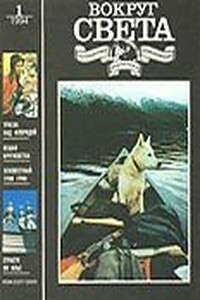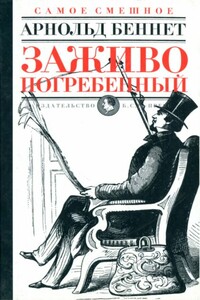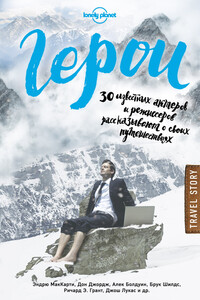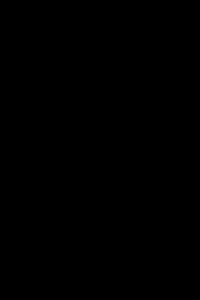Тугая волна морозного пара ожгла лицо. Я проснулся и секунду ошалело соображал, где это вдруг очутился. Не было ни светлой кабины, ни спины «шеф-пилота» Мысова, и только отдаленный вой, напоминающий вой мотора, все еще связывал меня со сновидением, с бешеным бегом амфибии.
Но тут из молочной ледяной пелены проглянулся угол русской печи, распахнутая дверь и отчаянно завывающий Шарик, которого тащил из сеней в избу заиндевевший Анатолий Изосимович. Стылый пар рассеивался медленно, будто бережно возвращал меня в реальный мир, в теплый уют низковатой зимней избы Пономарева, в старинную деревню Кевролу над рекой Пинегой.
— Мороз большащий! — сказал Анатолий Изосимович, разглядев, что я уже не сплю, и забросил шапку и рукавицы на полок, приколоченный над дверью.
Со вчерашнего дня, видно, холода еще наддали — утреннее солнце нежно красило лиловым и желтым крепкий, в палец толщиной узорчатый иней на стеклах. Всю последнюю неделю февраля морозы над Пинежьем крепчали и крепчали. Но сегодня-то по календарю начиналась весна...
Я вспомнил, что сегодня первый день весны и хочешь не хочешь, а надо уезжать, пора. И потом в Едому еще хотелось заскочить хоть на часок. Уж больно красива, говорили, эта деревушка.
— Уеду, пожалуй, сегодня, — нерешительно сказал я. — Вот в Едому схожу — и на аэродром. Успею?
— Пошто так? — удивилась Вера Никитична, жена хозяина, выглядывая из-за занавески у печи. На добром, с ямочками, лоснящемся лице играли отсветы алого печного жара. — Гости-и! Небось не тесно...
Анатолий Изосимович решил сам показать кратчайший путь в Едому, да и дела у него были на совхозном конном дворе, и мы вышли вместе. В резком, колючем и прозрачном воздухе до Едомы, до ее темных домов, казалось, рукой подать. Километра два, не больше, было напрямик. Но наст еще не окреп, проваливался, и я вернулся на тропу и послушно двинулся за Пономаревым отыскивать наезженную едомскую дорогу.
Она начиналась в веере санных следов, почти сразу за конным двором, так что Анатолию Изосимовичу не пришлось далеко уходить от своих дел. Он махнул рукой, давая мне верное направление, и стал закладывать сани, готовясь отправиться к неблизким стогам за сеном.
Я поглядел, как он справляется с закостеневшей упряжью, и представил, как в далеком селе Пинега, в полутора сотнях верст отсюда, в это время «закладывает» свои красные саночки Мысов, обжигает голые руки о морозный металл и поминутно дует на пальцы...
Едомская дорога пересекала большое снежное поле. Оно было розовым от лучей низкого солнца, в ложбинах лежали голубые тени. «Мысов бы проскочил на машине это пространство минуты за две», — подумал я. Это была лучшая дорога для амфибии — целинные глубокие снега, лучшая из всех дорог, которые упоминались в рекламном проспекте «Авиаэкспорта»: «Рыхлый снег и вода, полыньи и ломающийся лед — вот трассы аэросаней-амфибий, созданных в конструкторском бюро А. Н. Туполева. В условиях бездорожья, по воде и снегу аэросани-амфабия способны перевезти полтонны коммерческой нагрузки на расстояние 300—500 километров с крейсерской скоростью 50—70 километров в час...»
Яркую рекламную книжицу подарил мне в пинежской гостинице Глеб Васильевич Махоткин, ведущий конструктор ОКБ Туполева. Вместе с другим москвичом — инженером-конструктором Лиоповым и главным инженером архангельской транспортной конторы связи Мотрошилиным он приехал в Пинегу на эксплуатационные испытания последней машины.
Далекая северная река не случайно была выбрана для испытаний и службы аэросаней-амфибии. Здесь наилучшим образом могли быть проверены и использованы все универсальные возможности новой машины с маркой ТУ.
Река Пинега, вековая дорога, издревле связывающая на протяжении семи сотен километров прибрежные селения, была и оставалась дорогой ненадежной. Летом река мелела, ее перегораживали многочисленные перекаты. Зимой заваливали непроходимые глубокие снега... Долгие ледоходы и ледоставы начисто прерывали всякое движение по реке — ни плоскодонка, ни аэросани на широких лапах-лыжах пройти не могли. И на берегу легкие пути были заказаны — болотистые топи, озера, речушки и таежные чащи твердо держали Пинежье в плену бездорожья. Лишь исправно гудели в воздухе независимые АНы, ИЛы и вертолеты, но никто внизу не ждал, что в каждой деревне со временем появится собственный аэродром. И потому проверенным транспортом, небыстрым, но надежным, в хозяйстве пинежан оставались саночки да осиновый стружок — крепкая, точно литая, лодка, сработанная из цельного ствола.
При нужде сани шли в ход не только зимой. Один путешественник, описывая свои скитания по Пинеге в прошлом веке, с удивлением отметил, что на санях ездят и в летнюю пору, прямо по травам. Вот, мол, до чего темные люди эти пинежские затворники...
Но, наверное, не так уж прост был тот возница, что первым догадался пустить по топям, по заболоченному лугу свой зимний экипаж, пустить там, где лошадь еще продиралась, а телега бы увязла бесповоротно. Это была неплохая идея — создать всесезонные саночки, саночки-вездеходы...