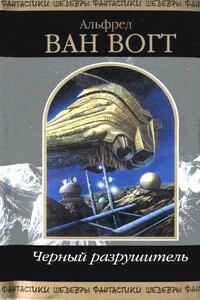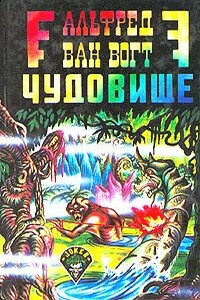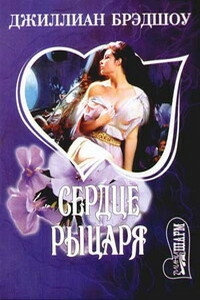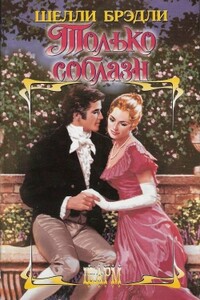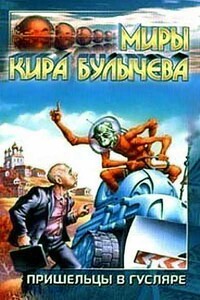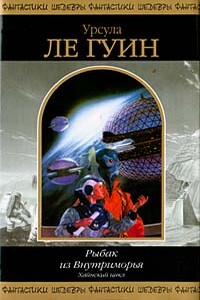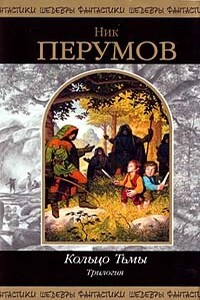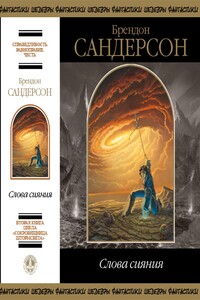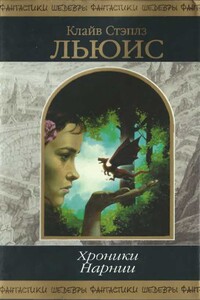— Приговор, — послышалось из приемника, — по делу Дугласа Эйда, обвиняющегося в попытке измены, совершенной второго августа…
Дрожащими пальцами Эйд прибавил громкость практически до крика.
— …что через неделю от сего дня, то есть семнадцатого сентября две тысячи четыреста шестидесятого года нашей эры, Дуглас Эйд должен сдаться патрулю соседней станции, откуда будет доставлен к ближайшему конвертору, где и должен быть предан смерти…
Щелк!
Он не осознавал, что выключил радио. Только что рев наполнял всю комнату, и вдруг наступила тишина. Эйд откинулся в кресле, устремив тоскующий взгляд сквозь прозрачную стену на сверкающие крыши Судебного центра. Все эти недели он понимал, что у него нет ни малейшего шанса. Научные достижения, пытался уговаривать он себя, склонят чашу правосудия в его пользу. И все же он понимал, что, какова бы ни была их ценность с точки зрения человечества, верховный судья вряд ли будет рассматривать их с тех позиций, что он сам.
Он допустил роковую ошибку, рассуждая в присутствии «друзей», что простой человек вроде Дугласа Эйда может иметь то же влияние, что и бессмертный верховный судья, и что, возможно, было бы совсем неплохо, если бы указы и декреты издавал кто-то менее далекий от нужд людей. Чуть меньше ограниченности, настаивал он, чуть больше индивидуальности. Эти импульсивные высказывания объяснялись охватившим его возбуждением, которое, в свою очередь, было порождено тем, что именно в тот день он преуспел в переносе нервных импульсов цыпленка в нервную систему собаки.
Эйд пытался ссылаться на это открытие в качестве объяснения того, почему находился в ненормально взвинченном состоянии разума. Однако мировой судья объявил эту причину не относящейся к делу, несущественной и вообще несерьезной. Отказавшись выслушать, в чем суть открытия, он холодно провозгласил: «Дело передается на рассмотрение верховного судьи, который проведет официальное научное расследование. Вот тогда и изложите суть своего открытия с приложением соответствующей документации».
Эйд мрачно предположил, что следователь по науке появится где-то через день, и обыгрывал в уме возможность уничтожения своих бумаг и приборов. Но потом с содроганием отказался от этой формы неповиновения. Контроль верховного судьи над жизнью людей был настолько полным, что он позволял своим врагам оставаться на свободе вплоть до самого дня казни. Департамент пропаганды верховного судьи интерпретировал это таким образом, что цивилизация никогда прежде не достигала подобного уровня свободы. Однако это вовсе не означало, что терпение верховного судьи безгранично и можно испытывать его, уничтожив свое открытие. Эйд был убежден, что к нему будут применены гораздо менее цивилизованные методы, если он не станет, как положено, проходить через весь этот фарс.
Сидя в своей комнате, окруженный самыми современными удобствами, Эйд вздохнул. Он может провести оставшуюся неделю жизни в роскоши, какой только пожелает. Последний штрих утонченной душевной пытки — быть свободным и пребывать в иллюзии, что, если хорошенько подумать, удастся сбежать. Однако он понимал, что бегство невозможно. Если он сядет в свой «прыгун», то должен будет немедленно отправиться на ближайшую патрульную станцию, где на его электронной регистрационной пластине оттиснут соответствующий знак. После этого машина будет постоянно испускать сигналы, автоматически извещая патрульные суда о временных и пространственных ограничениях данного ему разрешения.
Схожие ограничения контролировали его самого. Электронный прибор, вживленный в правое предплечье, может быть активизирован из любого центра, что будет сопровождаться ощущением жгучей боли все возрастающей интенсивности.
Нет абсолютно никакой возможности сбежать из-под карающей длани верховного судьи.
Эйд устало поднялся. Может, стоит получше подготовиться к предстоящему научному расследованию? Жаль, что теперь у него не будет возможности поэкспериментировать с высшими формами жизни, но…
Эйд замер в дверном проеме лаборатории, трепеща от невероятности мелькнувшей в сознании безумной идеи. Дрожа, ослабев, он прислонился к дверному косяку, потом медленно выпрямился.
— Вот оно! — произнес он голосом глубоким и напряженным, разрываясь между неверием и надеждой.
Надежда все крепла, и вместе с ней усиливалось ощущение ужасной слабости. Он рухнул на ковер и лежал там, бормоча себе под нос на характерном для ученых невразумительном сленге:
— …нужно побольше решетку, и побольше жидкости, и…
Вернувшись в суд, особый следователь по науке Джордж Моллинз немедленно попросил о личной встрече с верховным судьей.
— Объясните ему, — сказал он главному судебному приставу, — что я натолкнулся на чрезвычайно важное научное открытие. Он поймет, что это означает, если вы просто скажете: «Категория АА».
Дожидаясь приема, следователь по науке проверил готовность своих приборов и потом просто стоял, безучастно скользя взглядом по приемной с высоким сводчатым потолком. Сквозь прозрачные стены видны были сады внизу. Среди роскошной зелени мелькали светлые юбки женщин, и это напомнило следователю, что, по общему мнению, гарем верховного судьи состоял по крайней мере из семи красавиц.