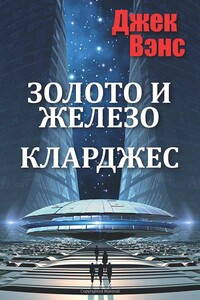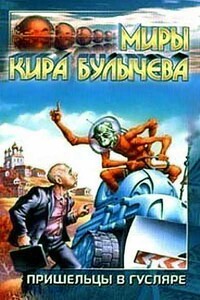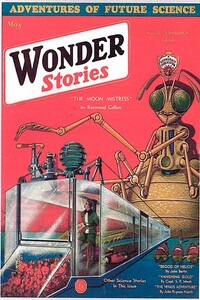Андрей Шарапов
Ведьма
Мелюзга не чувствовала голода, потому что не помнила настоящей сытости все война да неурожаи, а вот у Генки каждый вечер плавала перед глазами та краюха хлебца с осколками сахара, которую мать когда-то совала ему перед сном, приговаривая:
- Нельзя, Генуш, пустым ложиться- бабай будет сниться! Да еще, известное дело, в пятнадцать лет такой жор на человека нападает - спасу нет; поэтому, когда мать перед сном начинала просвеживать воздух и ругать лесозаводовское начальство, Генка мотал на чердак, где с нетерпением и ужасом, зажав в ручонках недоеденные горбушки, ждала его международная делегация со всего Острова.
- Подрастающему поколению,- презрительно кивал Генка и неторопливо устраивался на почетном месте - ящике возле теплой дымовой тяги; татарва Загидка, оставшийся Острову от разбомбленного мурманского детдома, безродный, а потому самый отчаянный, - радостно приплясывал и бубнил:
- Геньса, холос тянуть, давай скази!..
Генка жадно съедал все горбушки и, отвалившись к тяге, недовольно спрашивал:
- Вам про разведчиков, граждане-товарищи, или про страшное?- И хотя Генкины рассказы про разведчика дядю Витю, чуть не взявшего в плен самого Гитлера, были безумно интересны, все, даже крошечный и трусливый Васятка, помучившись немного, шептали:
- Про страшное, Геннадий Никодимыч... Про бабку Лукерью, пожалуйста...
И Генка, почернев от волнения, начинал...
Лукерья с Генкиной матерью были попервоначалу подружками, но из-за Федьки Рожнова рассорились: обеим он глянулся, да Лукерья оказалась побойчее, поигривее, вот и сладилась у нее любовь с ягодкой - Федором, а Генкиной матери осталось лишь, глотая слезы, жалиться Богу на повети да проситься у деда Силантия Корнеича на постриг... С детства Федор был ей сужен, меж родителей их был уговор, и бабы упреждали Лукерью - не сувайся, не порть чужого счастья, да куда там - влюбилась Луша, потеряла и память, и стыд... Перед свадьбой, как водится, пошла Лукерья к старухе Кутейковой, сводной сестре Силантия Корнеича, узнать про свою судьбу, Кутейкова долго кряхтела, отнекивалась от прямых предсказаний и все юлила:
- Ох, чегой-то не видать ничво - совсема я слепа стала!.. Но за Федьку не ходи, слышь? Те-омно тама!..
- Да чего ж темнит-то? - недоверчиво спрашивала Лукерья, вглядываясь в корытце с заговоренной водой. - Вона, ясно ведь!.. Небось за родню захаровскую хлопочешь, мне свадьбу расстраиваешь!
Старуха печально покачала головой.
- Что тебе, девка, ясно, то сведушшему человеку - знаки судьбы черной... Скажу уж, раз пристала, - мужа-то схоронишь, дитю и того не смош, сама век могилы не сышшеш! Верь мне, девка, моя вода не вреть!
- Дура твоя вода! - закричала Лукерья и опрокинула корытце на пол. На-ка!.. Все одно пойду я за Феденьку, не запужаете - и моя будет воля, не ваша!
Старуха испуганно перекрестилась и накинула на разлитую воду чистую простыню.
- То не наша, то Божья воля, - сурово сказала она. - Ступай, девка, да помни - упредили тебя...
Правду ли вещала старая, нет ли, но только через год родилось у Лукерьи дите скукоженное и хворое. Когда его спешно, пока не преставился, крестили у Силантия Корнеича, служившего тайно на повети взамен расстрелянного попа, состриженные волосики потонули в купели, что значило: Бог дал, Бог скоро и приберет... Уж как только ни выхаживала Лукерья сыночка - и шепотками, и козьим молоком, гретым с сон-травой, и примазками, и притирками - ему становилось все хуже, и фелшер с Турдеева, виновато вздохнув, вынес приговор: не жилец. Ночью Лукерья металась по избе, то молилась, то царапала в злобе лик Спасителя на иконе - не могла она смириться с тем, что должна отдать свою кровиночку непонятному и равнодушному Богу, который, видать, отвлекся на какие иные дела и решил не тратить на Лукерью своей милости или наказывает ее за неведомо какие проступки... В чем был ее грех? Неужто лишь в том, что полюбила она красавца Федора да венчалась с ним по христианскому закону, но сколько ж тогда таких виноватых ходит по земле? За что же злыдень Бог карает ее так жестоко?.. Когда ребеночек уж совсем помирал, вспомнила Лукерья колдовскую силу старухи Кутейковой, исчезнувшей в ночь на Преображение, и поняла: только нечистая и даст ей защиту от Божьего гнева, а ее сыночку - жизнь... В тот же вечер понесла Лукерья своего хворенького в староверческий скит на Тихих болотах; скит этот был брошенный, погнивший, а посреди разваленной часовенки его, прямо с амвона, вымахала здоровенная осина. Про осину ту шли дурные слухи, но рубить ее боялись, потому что тем, кто хотел ее забидеть, осина мстила... Пробыла Лукерья в скиту до утра, что там было - неведомо, но только назавтра ребеночек ее вдруг ожил, загугукал, и Федор Рожнов, гордясь и удивляясь такому чудесному событию, часто хвастал своим полюбовницам: "Моя баба даром, что с рожи скислая, а унутри у ней силища, и таки она слова знат, что может человека и в могилу свесть, и поднять со гроба, во!.."
Федор, протомившись семейной жизнью с год, прибился к плотницкой артели и стал ходить с ней в Архангельск, Холмогоры да Каргополь. Артель эта образовалась еще при государе Петре Алексеевиче, строившем якорный завод на речке Ширшемянке, и собирались в нее умельцы из пяти деревень, стоявших на пяти холмах вокруг Озера, - Ширши, Захарова, Дальней Горы, Средней Горы и Мызы. Само Озеро не имело названия, как не имел названия воздух или земля; раньше жители Пяти Холмов верили даже, что они вышли из Озера, и до сих пор частенько возносили молитвы не только Господу, но на всякий случай и Озеру; тем, на кого оно гневалось, лучше было убираться подобру-поздорову с Холмов, а тем, кого Озеро жаловало, шла через жизнь удача... Лукерью Озеро любило: часто она приманивала рыбу прямо к берегу, брала в подол; ребятенок ее бесстрашно барахтался в воде все лето; когда Лукерья впадала в тяжелую, ядовитую тоску по своему разгуляю Федору, Озеро тоже начинало хмурнеть и волноваться, а когда артель возвращалась с заработков и сердце Лукерьи играло радостью - по Озеру шло сияние и веселый перезвон... Федор, ухмыляясь, садился у крыльца, вынимал гостинцы, а Лукерья так глупела в своем счастии, что только металась от печи к крыльцу да расчесывала, миловала сыночка... Федор хохотал ее бестолковости, щипался и упрашивал: - Дак хоть словцом-то приветь мужа, дуреха, расскажь, как тута жизнь на вашей луже?