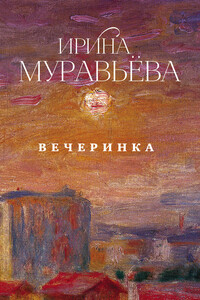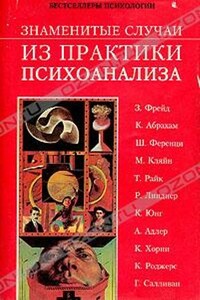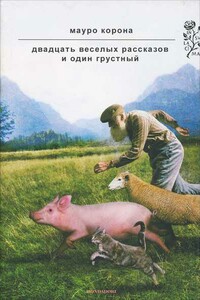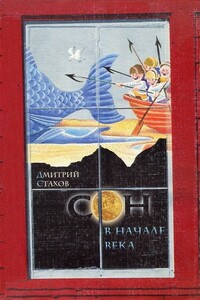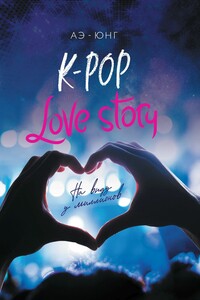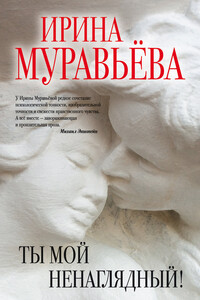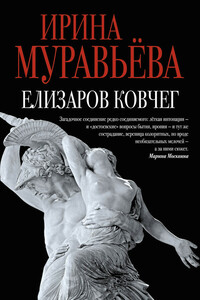В воскресенье, двадцать четвертого мая, Комаров выпал из окна. Природа сияла, и даже стаканы в руках алкашей сияли, как звезды на небе. Комаров выпал из окна случайно. Внизу собирались жарить шашлык. Это было замечательное время. Каждые выходные собирались у Комаровых мужчины и женщины, и начиналось веселье. У всех были машины, ракетки для игры в бадминтон, надувные матрацы. У некоторых даже сумки-холодильники. Многие носили шорты, а женщины перехватывали распущенные волосы пластмассовыми коричневыми обручами. Конец шестидесятых, шашлыки, надувные матрацы, «Три плюс два», Давид Ойстрах, Миронова и Менакер. Июль проводили, как водится, в Пярну, зимой – две недели – на лыжном курорте. В Чечне все спокойно, в горах ледники, цветут эдельвейсы. Повстанцы, бандиты и боевики еще мирно спят в колыбелях, а многие пока даже не родились на земле.
Комаров перегнулся через подоконник. Он хотел, чтобы шашлык сбрызнули водой – сочнее намного, – и вдруг его полное теплое тело сползло, как тяжелое тесто. Сползло и упало, подмяв своей тяжестью цветущую пену лиловых кустов. Оно растеклось по траве и вдруг стало мясистого, красного цвета.
К нему с криками бросились со всех сторон. Он был жив и успел прохрипеть, что все нормально, хотя чувствовал, как голова нетерпеливо, с тянущей болью, отрывается от тела и уходит, спотыкаясь на беззвучных ногах. Он помнил, что баранину нужно сбрызнуть водой, иначе она сгорит, и поэтому попытался подцепить голову ладонью, как новорожденного в корыте, но голова выскользнула. Наступила темнота, в которой оглушительно застрял визг «Скорой помощи» и не успокоился, пока кто-то с неба, услышав его, задул этот крик, как ненужную свечку.
В Институте Склифосовского Марине сказали, что муж ее выпал очень удачно и, наверное, выживет. Но Комаров умер. Ночью, когда на столицу обрушился ливень, в его задремавшее сердце попал сгусток крови.
Без Комарова жизнь почернела и принялась разлагаться. Тошнотворный запах людского равнодушия, безденежья и непроходящей усталости поднимался из ее глубины. Однако нельзя было просто так сдаться. У них были дети. Две тощие девочки: Оля и Лена.
В самом конце августа внезапно выпал снег и не растаял даже к полудню. Тридцать первого, в теплых куртках поверх летних платьев, бледные и серьезные, Марина и девочки купили лохматые красные астры. На астры налипла земля. Смывая ее, она вспомнила, что он сейчас тоже в земле, и заплакала.
Девочки заметили, что за три летних месяца мама плакала так много, что на ее щеках появились длинные морщины, словно слезы размыли кожу, образовав специальные борозды, по которым им было удобнее и быстрее стекать.
Папин костюм, сшитый в ателье по заказу из очень хорошей «английской», как говорила мама, шерсти, купил дядя Игорь, живший в первом подъезде. Папины ботинки ему не подошли. Велики. Когда папа был жив, он возвышался надо всеми кудрявой, лысеющей головой, как дерево, случайно оказавшееся среди молодых неуверенных саженцев. Дядя Игорь, купивший папин костюм, как назло, все время попадался им на глаза именно в нем, и возникало иногда чувство, что это папа садится в машину дяди Игоря и уезжает на работу, даже не взглянув на них.
Мама вдруг стала такой забывчивой, что уже не заглядывала к ним в комнату перед сном и не говорила «Спокойной ночи». Девочки простили ее. Бабушка Зоя, мамина мама, иногда приезжала из Калуги и жила у них по две-три недели. Варя им компот или штопая кофточку, она говорила, что нужно терпеть, тогда все пройдет. Один раз они спросили, что это значит, потому что в глубине души надеялись, что папа воскреснет, и именно это она сейчас скажет. Но бабушка вдруг объяснила, что все станет лучше, когда будут деньги. Про деньги они понимали одно: прекрасно, когда их «хватает». У папы всегда их «хватало». Ведущий фотограф в «Советском экране», он был нарасхват. Его приглашали и брали повсюду, включая Италию и Будапешт. У них была вкусная еда (не очень полезная, правда, но в те времена любили все то, что отнюдь не полезно, зато очень вкусно), и мама подавала к завтраку тоненько нарезанный сервелат, сыр «Виолу» с оскаленной блондинкой на этикетке, красную икру и печенье «Мария». А папа пил кофе, чернее, чем деготь. Иногда у них в доме появлялись известные артистки, вроде Немоляевой и Мордюковой, и мама кормила артисток обедом, хотя они вечно куда-то спешили и ели салат оливье в зимних шапках. От Мордюковой так сильно пахло духами, что часа полтора после ее ухода квартира продолжала благоухать, и запах этот уходил медленно и неохотно, как будто ему хорошо было с ними, он втерся, пригрелся и хочет остаться.
Но папа упал из окна. Папа умер. Соседи шептали, что папа: «погиб». Костюм из английской шерсти носил дядя Игорь, а мама продолжала плакать. Ее зарплаты младшего редактора АПН не хватало на жизнь. На прежнюю жизнь. Все папины вещи: ветровка, дубленка, мохеровый шарф, ушанки, перчатки поплыли из дома, как рыбы. Их переловили друзья и знакомые. Потом кинокамера, магнитофон, часы, зонтик, купленный в Риме на рынке, и даже (смешно сказать!) желтые плавки ушли вслед за всем остальным. Он не торопился покинуть свой дом. Он медлил, как запах духов Мордюковой. Поэтому много осталось в шкафу. Еще можно было продать его шляпу, очки от палящего южного солнца, всю обувь, два свитера, бриджи из замши. Она не притронулась к этим вещам.