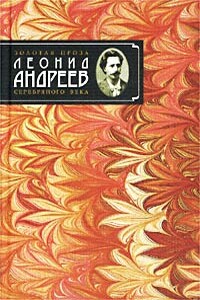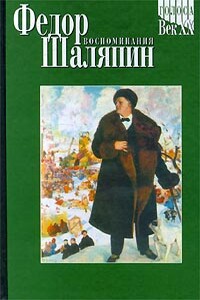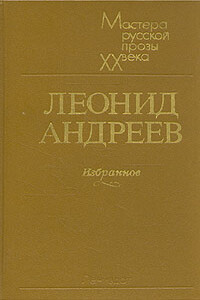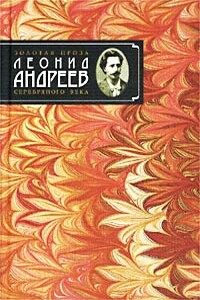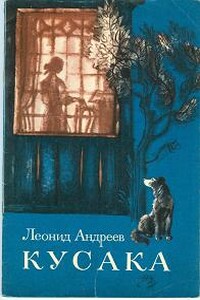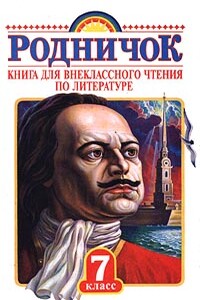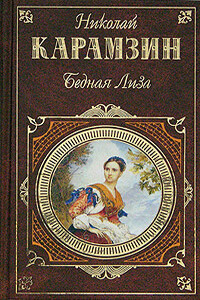В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легок и прозрачен, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы.
И сколько ни было людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане.
В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный, исчерна-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею; желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие, молодые руки его были закинуты за голову и обнажились почти до локтя; раскрытая книжка, корешком вверх, лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых, спали, говорили, думали, делали что-то свое — и на все наложили свою чуждую печать. И эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том — самом для него тяжелом и страшном, — о чем хочется забыть и не думать.
— Скучно… Ску-у-чно! — протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернула гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки.
Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее, и глаза Павла с силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное.
— Бедный я малый! Бедный я малый! — вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок.
Карниз потолка был лепной и изображал русское село: углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности; рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты; дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадью, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке: хата, большой мужик, церковь и огромная телега, и так кругом комнаты. И все это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева.
— Хоть бы завтракать скорее! — прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано: «Бокль. История цивилизации»,[1] и это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире.
— А, черт! — ругался он и отбрасывал материю, но, тяжелая, она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник.
Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделю тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно, — он замирал в тумане, бессильный подняться над землею, и это бесшумное движение под черным небом, среди темных, промокших домов, казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные; но Павел видел их странную и страшную обособленность: они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них: улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их — и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его, — и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна.