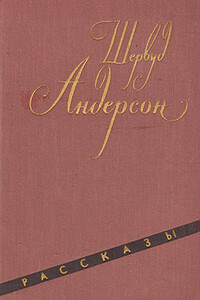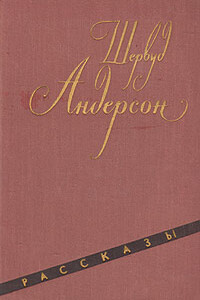Стар стал Аркадий Данилович Супрунов. Ныне в сентябре ему восемьдесят исполняется, но скор еще на ноги, бегуч по деревне; вечерком к своему дому ползет. Часто не доходит; привалится где-нибудь на солнышке и спит пьяненький. Люди в деревне знают, что я Супруну не родственник; каждую осень приезжаю на пару недель порыбачить на Кану.
Квартирую в его доме. Старуху свою Супрунов похоронил давно. Живет одиноко в пустом от мебели и гулком от высоких потолков доме. Тем не менее, кто-то из соседей да зайдет, сообщит, где на этот раз казак притомился. Приходится идти за ним, валить его себе на плечо, и нести домой, который раз удивляясь легкости его воробьиного веса: росту в нем метр с кепкой.
— Ты же обещал! — ругаю его, когда он выспится.
— Иде? — он делает вид, что не понимает.
— Ох, и напишу я о тебе, — я веселюсь его лукавством и жизнестойкостью.
— Что обо мне писать? Живу и живу. Дере-евня, — как-то особенно сладко он выговаривает это слово. — Помереть рад, да Богу видно не нужен… Дай денег опохмелиться.
Денег у меня нет, поэтому он час — другой сидит в тесной кухоньке у окна, курит сигарету за сигаретой, тоскливо посматривает на большой, заросший лебедой и полынью двор. На улице дождит. В такие дни я протапливаю печь березовыми дровами. В доме тепло. Сигарета у Супруна часто тухнет, спички он экономит, прикуривает от клочка газеты, который жарко пыхает пламенем, когда Супрун приоткрывает чугунную дверцу и наклоняется к огню.
Я задыхаюсь в городе среди озлобившихся людей, поэтому бегу то на дачу, будто там можно спастись от надвинувшегося кошмара, то сюда, в эту недалекую от Канска, тихую деревеньку с татарским названием Ашкаул. Бегу под предлогом рыбалки, но, по сути, скрываюсь от тоски, читаю книги, пробую писать.
— У тя скоко детей? А жинка ёсть? Иде работает? — пытает он меня на дню сотый раз. Особенно с похмелья он говорлив и рассудителен. В такие минуты взгляд его осмыслен, чист, умыт до выцветшей голубизны: ни тени в них сомнения, ни упрека. В сотый же раз я терпеливо ему объясняю, чем я занимаюсь и кто мои жена и дети.
— А у Сёмки? Во память: старость, как фальшивая монет — на нее не купишь ничего, — философствует над своим склерозом старик. — Уж и не помню, скоко у меня внуков.
Сёмка — молодший его сын. Всех детей у Супрунова пять: два сына и три дочери. Я знаю только сыновей: Семена, и старшего — терапевта городской поликлиники — Парфена Аркадьевича. Семён — из «новых русских». Голова у мужика варит, два высших образования в свое время получил; крупный и весом и ростом, раскатист душой, хоть и не жадный, но себе на уме, добродушный, как слон. Поставь отца рядом с сыном и не скажешь, что один другого породил. Парфен тоже внешне не похож на родителя, прогонистее Семёна, сухощавее, помельче в кости. Оба в мать. И лицом и статью. На семейных фотографиях, что пожелтели под стеклом на стенах горницы, Таисия Мироновна везде на голову выше окружающих её людей. Удивительно спокойное, мало выразительное лицо — скорбно; скорбь таится и в крупных умных глазах.
— Девок растишь, деньги в воду мечешь, — отмахивается от моих вопросов старик. — Открытки шлют к праздникам. Сёмка и Парфен у меня хорошие.
— Чем же они хорошие? Ни один к себе жить не берет, — не верю я старику.
— А-а-а, все невестки. Не бабенки, а зуботычины. Пробовал я жить у Сёмки. Неделю побыл, и сам попросился назад, в деревню. В городской квартире и плюнуть некуда, курить не дают. А здесь я сам себе — кум королю, сват — министру.
Что верно, то верно: здесь ему всё ладно. Хотя и мне многое в его быте не по душе. Харкается он часто, когда курит у окна на кухне. Для этого у него плевательница на полу под ногами — круглая банка из-под тихоокеанской сельди. Когда я приехал, в этой банке опарыши кишмя кишели, вонь от них стояла на кухне — не продохнуть. На улицу он до ветру не ходит, мочится в ведро на кухне. Половая тряпка из мешковины от мочи обуглилась. После пьянки у него от «стеклореза» понос. Деревня сегодня живет по-сиротски, пьёт глухо, без песен и народных гуляний; дерутся мужики и бабы остервенело, будто заклятые враги. Подростки и молодежь, невостребованные, уже не «гоняют хорька по огородам», как это было в годы моего детства, а тащат все, что могут поднять и унести безнадзорное. «Стеклорез» — технический спирт местного биохимического завода — самое дешёвое пойло в деревнях; самогон и тот перестали гнать из-за дороговизны сахара. Копейка крестьянина только от трудов своих: кабанчика вырастил — детям справа в школу, корова — вековечная кормилица русского человека! Без молока в деревне, хоть ложись и пропадай.
Дед — фронтом — войной закаленный воин. В его большие годы ему все равно, что «стеклорез», что пулемет — лишь бы с ног косила. Вот и керосинит, получив пенсию, беспробудно. Понос у него постоянно. До улицы не добегает, и на ведро присесть не может, — оправляется как недельный телёнок; беленая стенка кухонной перегородки рядом с дверным косяком, где стоит ведро для помоев, по уровень пояса желтая, в засохшей дрисни.
Отношение мое к старику Супруну, как к ребенку. Брезгливости нет: стар, что мал. Приеду, и стенку отмою щеткой, и котел в бане нагрею, старика от грязи отскребу, белье чистое заставлю надеть. И каждое утро брею старика станком, умываться теплой водой из таза принуждаю. Супрун ворчит, но подчиняется; даже засыпает от удовольствия, когда я осторожно и тщательно скребу безопасной бритвой жесткую серебристую щетину вокруг глубоких его морщин на лице и шее.