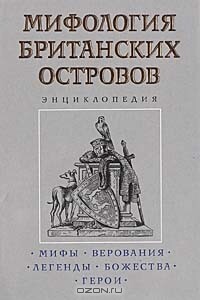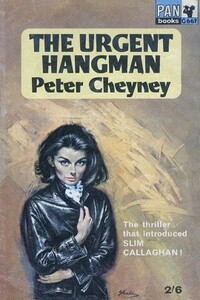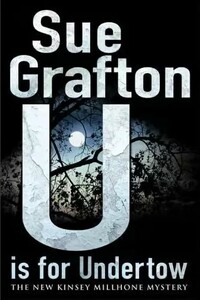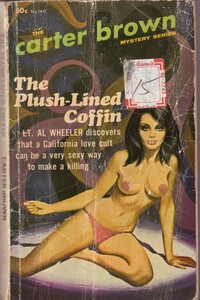Невозможно вписать Джона Джерико в модный сейчас образ антигероя. Его габариты и внешность никак не укладываются в это прокрустово ложе. Ростом он шесть футов и шесть дюймов, весом — в добрых двести сорок фунтов[1], из которых на жир не приходится и унции. Добавьте к этому густые рыжие волосы и такого же цвета бороду и вы поймете, что такие люди нечасто встречаются на наших улицах. Более всего он напоминает мне викинга, перенесшегося к нам из далекого прошлого.
Выделяется он и на вечеринках. Если ему скучно, сидит как истукан, если весело — голос его восторженно гремит, бьющая из него энергия готова смести все и вся. По профессии он художник, и его работы, выставленные во многих музеях и частных коллекциях, вызывают много споров. Он рисует то, что видит и чувствует, в ярких тонах. Из черт характера главная в нем — стремление помочь слабому, будь то один человек или группа людей. Рисует он сердито, и зритель либо сразу становится его поклонником, либо шарахается в сторону. Его можно или любить или ненавидеть.
Впервые я встретил Джерико в Корее почти пятнадцать лет тому назад. Я служил в армейской разведке Джерико — в группе коммандос, выполняющей задания командования за линией фронта. Разумеется, в те дни он обходился без бороды. С первого взгляда меня поразило несоответствие его могучей фигуры и грациозной походки. В мои обязанности входило составление подробных отчетов о действиях коммандос. О Джерико отзывались как о человеке, не ведающем страха. Последнее отнюдь не означало, что он невероятно храбр. При отсутствии воображения можно не признать опасности. Если человек не подозревает о ее существовании, ему не нужна храбрость, чтобы смело встретить ее. Но, по мере нашего знакомства, я убеждался, что воображения у Джерико хватает на двоих. Его ярко-синие, находящиеся в постоянном движении глаза ухватывали мельчайшие детали. Эта особенность впоследствии позволила ему стать очень хорошим художником.
В Корее наши отношения оставались чисто профессиональными, а подружились мы позднее, вернувшись домой и демобилизовавшись из армии. Наверное, нас свела воедино наша абсолютная несхожесть. Я, Артур Холлэм, низенький, толстенький, люблю сидеть и слушать. Люблю и поесть, причем вкусно. В некотором смысле я — гурман, для Джерико же пища — горючее, необходимое для поддержания работы двигателя, то есть тела. Я играю в бридж, трик-трак, шахматы. Джерико покоряет горные вершины и борется с несправедливостью. У меня голова что компьютер. Я вбираю в себя информацию и перерабатываю ее для последующего использования в моих романах, которые пишу в стиле Кафки. Я — бесстрастный наблюдатель, увиденное и услышанное мною становится фоном, на котором разворачивается их действие. Джерико живет тем, что видит и слышит. В его суждениях нет полутонов, только черное и белое. Что-то он считает правильным, что-то нет. С последним он борется не на жизнь, а на смерть. Он не может пройти мимо несправедливости, он всегда протянет руку помощи больному, раненому, слабому. Кажется, я никогда не слышал от Джерико фразу: “Пусть это сделает Джордж”.
Я охарактеризовал этого необычного человека, пусть и в самых общих чертах, для того, чтобы вы поняли, почему он вступил в борьбу с целым городом, почему вмешался в судьбу трагически несчастной женщины, которая сама относила себя к “ходячим мертвецам” — людям, не видящим смысла в жизни, но продолжающим жить из-за боязни смерти.
Своим домом Джерико считает студию в Джефферсон-Мьюс, в той части Нью-Йорка, что называется Гринвич-Вилладж, но бывает он там редко. Скорее, это склад для его картин и бесчисленных эскизов, которые он успевает нарисовать, странствуя по свету. Время от времени он решает завязать с крестовыми походами и осесть в каком-нибудь тихом местечке, забыв обо всем, кроме живописи. Во всяком случае, говорит он об этом так часто, что я уже начал пропускать его слова мимо ушей, зная, что он никогда этого не сделает. Вот и в тот день, когда мы обедали в ресторане клуба “Игроки”, он поделился со мной желанием уделить пару месяцев пейзажам, а я взял, да поймал его на слове. У меня был экземпляр “Сэтедей ревью”, и я сразу открыл раздел “Разное”. Там можно найти все, что душе угодно. И я тут же отыскал студию для художника”, сдававшуюся в аренду на три месяца, поскольку ее владелец отправлялся в Европу.
— Или поезжай, или прекрати эти разговоры, — и я протянул журнал Джерико.
Следующим утром Джерико сел в свой ярко-красный, как пожарная машина, “мерседес” и покатил в Кромвель, штат Коннектикут. Он хотел показать, что действительно намерен рисовать пейзажи. Уехал он в понедельник. Я полагал, что мы увидимся за обедом в четверг. Едва ли он высидел бы больше в мире и покое. Каким же я оказался наивным. Там, куда приезжал Джерико, не оставалось ни мира, ни покоя.
Студия оказалась маленьким чудом. Прилепилась она к вершине холма, прямо над городом с его церковью времен Революции, шпиль которой возвышался над кронами деревьев, и озером Кромвель. Дело происходило в ноябре, буйные краски осени уступили место серо-бурому цвету с пятнами зелени хвойных деревьев на окружающих город холмах да белыми полосками стволов берез. Но для Джерико каждый цвет имел тысячи оттенков, так что первые два дня он не отходил от мольберта. В среду же, ближе к вечеру, он понял, что после приезда в Кромвель еще ни разу не поел как следует, питаясь только консервами, которые запивал галлонами кофе.