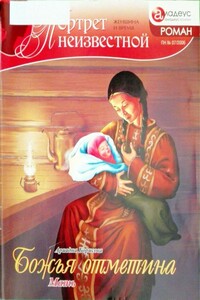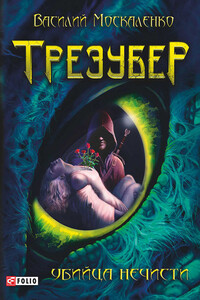Домм первого вечера[1]. Идущий впереди
В середине Голодного месяца драчливые ветра прежде срока пошатнули ледяные рога Быка Мороза, грозного мужа старухи Зимы. Вслед за первым рогом в Коновязь Времен почти сразу рухнул второй. Уходя раньше обычного, тающее чудовище взревело от обиды бесснежной вьюгой и насухо вылизало обнищавший наст. Лесные старики проснулись в берлогах, а земля почти вся уже черная. Люди заторопились к летним домам и пастбищам. Не переедешь на летники вовремя – скот потопчет сенокосные угодья возле зимних жилищ.
Еще в начале вскрытия рек Манихай пообещал жене проведать пастбище у озера Травянистого, починить стоящий там тордох. Обещать было не тяжко, но как теперь до дела донести, когда время ужалось впритык? Досада разбирала: помочь-то некому! Дома остались младший сын-калека Дьоллох и приемыши-недоростки – Атын с Илинэ.
С калымов, взятых за дочерей, семья разжилась шестью дойными коровами с приплодом, ездовым быком и табунком в двенадцать голов. Имели бы больше, однако случилось справить калым старшему сыну. Он, как и дочери, жил далеко. Поехал однажды в гости к сестре Нюкэне и женился на тамошней девке, осел примаком в чужом роду. Манихай злился: не бывало такого допрежь, чтобы мужи покидали родной кров. Сыновьям полагается привозить жен из других родов в отчий дом, вести хозяйство и ублажать отработавших свое родителей… Ан нет, все теперь не по заветам отцов!
– Много детей – плохо, мало – тоже плохо. Много скота – плохо, мало – еще хуже, – вздыхал Манихай, разговаривая со своей ленью, будто с живым существом. – Смирись, покорись, лучше труды, чем бедность…
Заведенная с утра Лахса едва рот раззявила, а ни слова сказать не успела: кликнув ребят, Манихай шмыгнул за дверь. Дорога перед быком словно сама поскакала вперед с горки на горку. Не прошло времени и полутора варок мяса, как за бугром показался двор над излучиной озера. С опаской глянул хозяин – ну как совсем развалился тордох? И от души отлегло: стоит, бедолажка!
Растянулся Манихай на лежанке, не снимая дохи, и немедленно захрапел. Лахсы здесь нет, некому жужжать над ухом, а дырья из стен никуда не сбегут, все равно приведется латать. Только б лень, отдохнув, отступила перед неминучей трудовой неволей…
Пока глава семейства хозяйничал во сне, ребята надрали в лесу кору для тордоха, загрузили сани дровяным сухостоем, чтобы не порожняком домой возвращаться. Быстро время бежит, если работа в охотку. Не заметили приближения вечера, починяя жилье. Лишь тут из дверей вылетел ошалелый Манихай со скособоченным от спешки ртом. Продрав заспанные глаза, оглядел чисто убранный двор, полные хвороста сани. Почесал всклокоченный затылок и вздохом-стоном огласил окрестности. Удивление, вину, благодарность, а пуще того – безмерное облегчение вместил в себя этот протяжный вздох.
– О-ох, молодцы! Не знал, что совсем взрослые вы у меня. Ну, стало быть, к дому!
Едва ли не втрое длиннее показался умаявшимся ребятам обратный путь. Волдыри на руках огнем возгорелись, по спинам прокатывалась знобкая дрожь. Манихай в прекрасном расположении духа восседал верхом на быке. Не понукал скотину и помощников не подгонял. Блаженно озираясь вокруг, любовался весенней землей и веселую песенку насвистывал на радость горному эху. Недаром говорят: человек саха, как примостится на бычьем хребте – певец!
А и было чем любоваться, отчего напевать! Почки верб распушились ярко-желтой пыльцой, на склонах холмов задымились ворошки подснежников, словно непутевые ветра в мелкие клочья изорвали здесь зазевавшуюся тучку. Однако подумалось, что нынче цветов взошло небогато. В прошлую-то весну сами холмы казались облаками из-за цыплячьего пуха бутонов. Плохую примету ворожит Молочный месяц. Видать, засушливым годом решил отомстить Бык Мороза торопкой весне.
Манихай решил размять кости неспешной ходьбой и слез с быка. Не мешало нагулять к ужину приятную усталость в теле и здоровое желание еды. Почему бы ребят не порадовать какой-нибудь историей? Заслужили! Вроде бы притомились и еле ступают, а глаза-то вон как порскают по сторонам, примечая весенние новости. Юным – что, с их рук водяные мозольки вместе с грязью слезают.
Языком трепать – не лопатой махать, а рассказчик Манихай неплохой, в отца Торула́са, умельца сказывать байки о ботурах да волшебниках. Отец, между прочим, и сам обладал волшебным подспорьем – имел духа-хранителя, бестелесного двойника. Может, об этом поведать ребятам?
– Ты, Дьоллох, просил рассказать о дедушке Торуласе, – начал Манихай, и дети придвинулись ближе. – Был он не простым человеком. Помнится, перед тем как ему с охоты вернуться, со двора доносился свист – любил отец насвистывать песенки себе под нос.
– Как ты, – засмеялся Дьоллох.
– Разве? – удивился Манихай. – Ну так вот, слушайте дальше. Матушка котелок к огню подвешивала и говорила: «Недалеко хозяин – мясу доспеть». Я возражал: «Явился уже», торопился дверь отворить, а во дворе пусто. Матушка, бывало, лишь улыбнется хитро. А только сготовится мясо – отец тут как тут. Заходит, весь увешанный зайцами, большой и белый, точно ходячий сугроб!