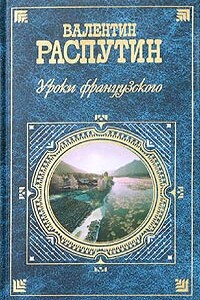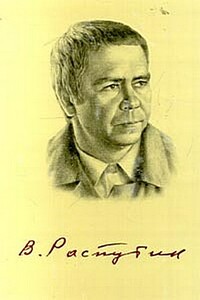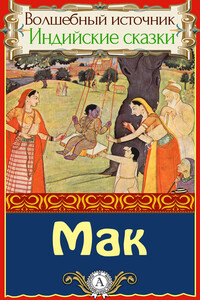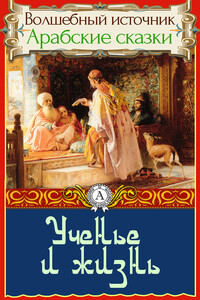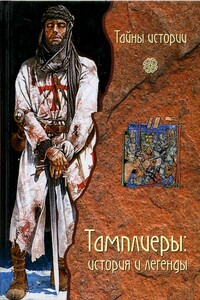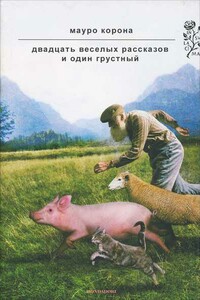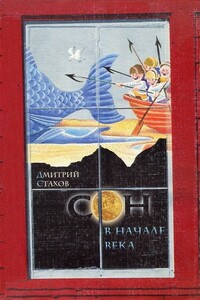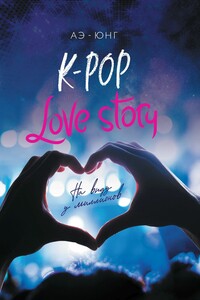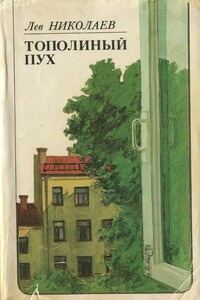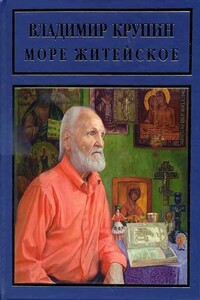Когда писателя знаешь почти полжизни, пишешь о нем книги, постепенно он и сам становится для тебя «текстом». И ты читаешь его книги и судьбу как собрание сочинений. Но однажды тебе делается недостаточно текста, и ты видишь, как твой товарищ сам становится твоим сердцем, твоей любовью, твоей жизнью. Словно литература теряет свои литеры и опять делается болью и светом, тьмой и победой живой повседневности. Или даже и не так, а наоборот, понимаешь, что литература - это и есть единственно подлинная жизнь, свидетельство того, чем мы были, от чего страдали, во что верили и что будет нашим ответом перед Богом.
Валентин Григорьевич Распутин, кажется, один был так неукоснительно последователен среди товарищей, которые могли и на другие сюжеты отвлечься, и в «историю сходить». А он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, «самотканность нашего естества и духа» (как он скажет на одном из Всерусских соборов), потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение. Всё там - в крестьянстве-христианстве, которое не говорило о Боге, но держало Его в самом порядке жизни, в земле, силе, предании, совести. И теперь, когда его публицистика сошлась в одном томе, особенно видно, как неукоснительно прям был его путь, его «свидетельские показания» на суде истории, которая, правда, научилась прятаться от этого суда, страшась увидеть бездну своего падения.
Когда общество дробится и делается неотчетливо в идеалах и целях, оно научается лишать слова их отчетливого значения, дробя их на оттенки и толкуя уже не корни слов, а именно эти оттенки, извлекаемые в соответствии с нравственным и социальным слухом толкователей. И тут уж про твердые смыслы можно позабыть. Кажется, это началось сразу с нашей говорливой перестройкой и со всех страниц возглашаемым «плюрализмом». И таящееся зло словно только и ждало, чтобы тотчас начать размывать основания жизни.
Я и сейчас помню, как потемнело сердце от предчувствия слома живых основ, когда в одном из интервью газете «Советская молодежь» 1989 года Анатолий Приставкин, спрошенный о пугавшем тогда молодой либерализм обществе «Память» и о возможной связи с этим обществом такого «гуманистически настроенного писателя, как Распутин», вдруг ответил встречным вопросом: «А почему вы думаете, что Распутин -“гуманистически настроенный”?» Корреспондент смутился, не готовый к таким поворотам писательской этики, а Приставкин со снисходительной небрежностью объяснил, что, может быть, Распутин и был писателем, но, когда «деревенская проза» себя изжила, он с досады ушел в публицистику и встал на «антиперестроечные рельсы».
Оставим в стороне этот, увы, популярный тогда, но такой жалко-постыдный в устах серьезного художника жупел - «антиперестроечные рельсы» (им в те дни охотно пользовался всякий, как пропуском в либералы). Послушаем, что не устраивало его в «деревенской прозе», потому что Приставкин выразил мнение значительной части тогдашней (да и нынешней) интеллигенции, внезапно обнаружившей свою новодельность и безопорность: «Возможно, все дело в дефиците внутренней культуры (вот так - без глупых церемоний! - В. К.), без которой нельзя оставаться убежденным сторонником демократических преобразований, ориентированных на современную культуру, от которой мы долгое время были отгорожены... отгороженность от мировой культуры уже много нам навредила. Национальная замкнутость вредна».
Если бы это была только частность, единичная досада на великую на тот час «деревенскую школу», то можно было спокойно пропустить выпад мимо ушей. А только скоро стало ясно, что «война объявлена», что нужен был только повод, чтобы выговорить всю неприязнь к «деревенской прозе», еще удерживающей русское сознание в достоинстве и силе. Смотришь, тему в 1990-м году уже подхватил в «Литературной газете» Виктор Ерофеев в нарочито провокационной статье «Поминки по советской литературе». Поперек всякой правде Ерофеев писал там, что в «семидесятые годы деревенская литература добилась того, что в лице Астафьева, Белова, Распутина могла существовать в известной мере самостоятельно, исповедуя “патриотизм” (именно так, в кавычках - «патриотизм». - В. К), за что приглянулась официозу и была осыпана наградами».
«Со временем дело, однако, - продолжал Ерофеев, - стало меняться. Прозападническое развитие советского общества. способствовавшее тому, что в стране возникла общественная база для реформ, привело ко все нарастающему конфликту между деревенской литературой и обществом. Деревенская литература стала больше разоблачать, проклинать, чем возвеличивать». И дальше, все меньше сдерживаясь, Ерофеев уже и не писал, а зло выкрикивал о «зоологической ненависти “деревенщиков” к рок-н-роллу, аэробике, чуждым влияниям», клеймил «их своеобразный расизм. помраченное сознание, определенное историческим желанием переложить ответственность за национальные беды на “чужих”, найти врага и в ненависти к нему сублимировать национальные комплексы». И, конечно, названы были и сами эти «комплексы»: национального превосходства, религиозной исключительности, и лучше уж не цитировать про «зубную боль от языка» этой прозы, про «апокалиптический тон» и «монструозные идеи».