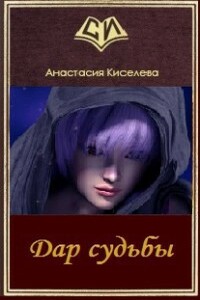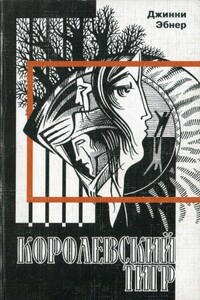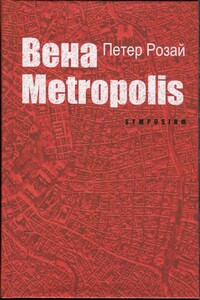Лето я провел в глухой провинции на востоке империи *, у своей старшей родственницы, с недавних пор вдовствующей. Дни в этом равнинном, словно выжженном краю были краткими, мимолетными, они пропадали из памяти, когда опускались сухие, холодные ночи, в какие, подобно глазури на горшках, покрывается трещинами кожа умирающих.
Повседневные дела, которые я вскоре стал выполнять как в полудреме, не заполняли моего внимания — ими была занята лишь правая моя рука, тем временем как левая, обычно крепко, как камень, сжатая в кулак, покоилась в кармане форменных брюк. Брюки достались мне от дядюшки, приходившегося братом моему отцу, как и хозяйке моего нового жилища, — он служил на почте и совсем недавно скончался от кровоизлияния в мозг.
Варварский обычай обитателей той пустынной земли, которой цивилизация коснулась разве что худшими своими сторонами, повелевал ближайшему и старшему по возрасту родственнику мужского пола носить в течение года одежду усопшего.
Этот жребий выпал мне. Дядя и тетя не вступали в брак, и детей у них не было; я же по счету был третьим из четверых детей, единственным ребенком моей матери от второго брака. Отец погиб на войне еще до моего рождения.
Вот мне и пришлось, облачившись в непомерно широкое одеяние, которое в плечах и на бедрах болталось, а где-то возле талии подпоясывалось шнурком вроде тех, какие используют для мешков с почтой, продолжить внезапно угасшую дядюшкину жизнь. Основатель столь бесчеловечного обычая, вероятно, рассчитывал отпугивать таким образом злых духов или, может статься, полагал, что души усопших скорее обретут покой, если смогут в первое, тяжкое для них время навещать свое прежнее окружение и убеждаться, что все там идет как положено.
Первый год после смерти родственникам усопшего запрещалось, под страхом телесного наказания, закрывать двери и окна своих жилищ. Такое установление, как объяснили мне, является закономерным следствием вышеупомянутого обычая; оно призвано дать бесприютной душе возможность беспрепятственно возвращаться домой когда ей вздумается: дом должен стоять открытым, постель, где умер покойный, — свежезастланной, а в кладовой душу его должна поджидать тарелка с простой едой из риса с фруктами, смотря по времени года, и холодным куском мяса. На самом деле все это было убогим отголоском некогда учрежденного закона, который в свое время, пожалуй, мог считаться прогрессивным, так как со всей последовательностью проводил принцип ненасильственного перераспределения собственности, объявляя в этих целях наследство покойного бесхозным имуществом сроком на год. На протяжении этого срока каждый мог свободно брать себе все, что заблагорассудится, и каждый имел право считать взятые вещи своими собственными, лишь бы они в основном оставались целы, других ограничений для пользования ими в свое удовольствие не предписывалось.
Руководствуясь старым обычаем — впечатляющим и бесполезным, обедневшие жители с азартом извлекали выгоду из первоначального смысла закона, то есть обогащались за счет скудных пожитков покойного — до тех пор, пока смерть в собственной семье не делала беспредметными все права владения или пользования чужим имуществом.
Когда я приехал в Цик, три дома стояли пустые, в четвертом семья как раз обзаводилась самыми необходимыми вещами, в пятом и шестом не было ни стола, ни стула, ни какого другого необходимого для жизни предмета обстановки. Лежавшие на полу матрацы как будто поджидали, когда же, наконец, явятся каркасы кроватей.
Мой приезд в Цик стал сигналом к разграблению, так как до прибытия «заместителя», или «распорядителя» (такими словами с простодушной иронией именовали наследника), дом покойного оставался неприкосновенен и лишь в ночь после того, как наследник вступал в права, можно было начинать разбойные набеги.
На вокзале, который снаружи выглядел так, будто кто-то, исключительно чтобы дать мне возможность сойти с поезда, свез в кучу руины барачного поселка и что-то из них соорудил, меня уже ждали: кроме тетушки, рядом с которой на железнодорожных путях красовалась — в знак приветствия — деревянная тачка, тут были главы упомянутых выше шести семейств с домочадцами; они явились для того, чтобы оценить силы будущего противника, а возможно, и чтобы нагнать на него страху. По лицу тети, одиноко стоявшей в стороне от них, покатились слезы, когда она увидала меня на подножке подходящего поезда — в руках черный фибровый чемоданчик, перевязанный простой бечевкой. Я спрыгнул с подножки, помахал ей и поспешил навстречу, а кондуктор уже поднял зеленый флажок, давая знак к отправлению.
Чемодан я погрузил на тачку, рукояти которой были сработаны чрезвычайно искусно и завершались двумя вырезанными из дерева ладонями, а сверху положил свой черный зонтик с красиво отделанной ручкой из рога. Я обнял тетю, мы расцеловались в обе щеки, я был представлен остальным собравшимся, назвал свое имя тому, кто приветствовал меня первым и, по-видимому, был старейшим, — он на минуту перевел взгляд с меня на тачку, оглядел мой багаж, лежавший сверху зонтик, чемодан под ним, затем вновь повернулся ко мне и сказал с коротким поклоном, произведшим легкий беспорядок в его зачесанных назад густых волосах, разделенных пробором: «Для меня большая честь познакомиться с вами, господин распорядитель!» — затем, одним широким шагом, он отступил в шеренгу собравшихся, чтобы дать место следующему по старшинству. Тот тоже приветствовал меня, вытянув руки вдоль складок своей колоколообразной форменной куртки и чуть наклонив голову. Порядок действий повторялся еще четыре раза, пока я не был наконец представлен всем «крестным» — так называли распорядителей, которые после того, как их срок заканчивался, оставались со своими семьями. Я обратил внимание на двоих из них, которые, определенно, были существенно моложе меня, — однако все они, стар и молод, обнаруживали неизменную вежливость и серьезность, что резко отличало их самих и их поведение от остальных членов семейств.