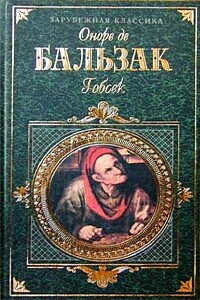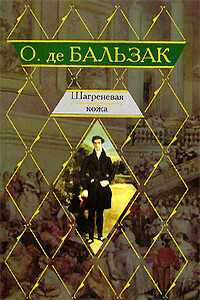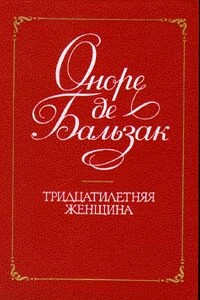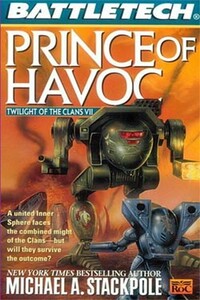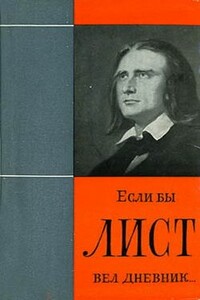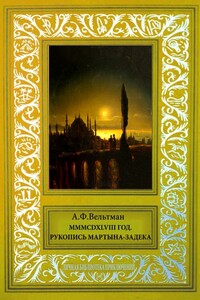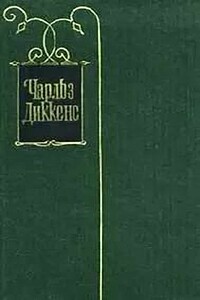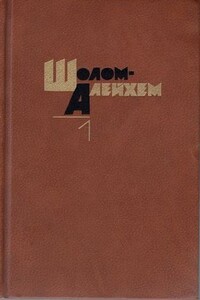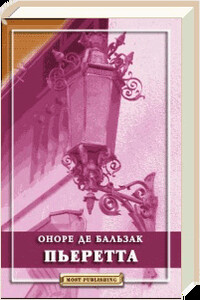В начале осени 1826 года аббат Бирото, главное действующее лицо этого повествования, возвращаясь из гостей, где он провел вечер, был застигнут ливнем. Со всей доступной для толстяка поспешностью он пересекал небольшую пустынную площадь позади собора св. Гатиана в Туре, называемую Монастырской.
Аббат Бирото, низенький человечек лет шестидесяти, апоплектического сложения, уже перенес несколько приступов подагры. Вот почему из всех мелких невзгод человеческой жизни для добрейшего священника не было ничего неприятнее, как замочить под внезапным дождем свои башмаки с серебряными пряжками и ступать по лужам. В самом деле, несмотря на то, что он, с присущей всем духовным лицам заботливостью в отношении своей особы, постоянно кутал ноги во фланелевые носки, — сырость всегда давала себя знать, и назавтра подагра неизменно напоминала ему о своем постоянстве. Но ввиду того, что мостовая Монастырской площади всегда суха; ввиду того, что в доме г-жи де Листомэр он выиграл в вист три франка десять су, — аббат стойко переносил дождь, хлынувший на него еще посреди Архиепископской площади. Впрочем, в ту минуту он был во власти своей мечты — давней священнической мечты, лелеемой каждый вечер и, казалось, уже готовой осуществиться. Словом, в грезах его так приятно согревало меховое облачение каноника, — должность эта была в то время вакантной, — что он и не чувствовал осенней непогоды. Лица, обычно собиравшиеся у г-жи де Листомэр, заверили его в тот вечер, что он получит должность каноника, свободную в епархиальном капитуле[2] св. Гатиана, ибо он — самый достойный из претендентов и права его, так долго не признаваемые, теперь уже неоспоримы. Вот если бы его обыграли в карты или он узнал бы, что каноником станет его соперник, аббат Пуарель, тогда бедняга почувствовал бы, какой холодный льет дождь; быть может, он даже посетовал бы на жизнь; но ему выпала одна из тех редких минут, когда предвкушение удачи заставляет забыть обо всем. Ускорил шаг он чисто машинально, и в интересах истины, столь важных при нравоописательном повествовании, следует признать, что он не думал ни о дожде, ни о подагре.
Встарь на Монастырской площади, со стороны Большой улицы, собору принадлежало несколько домов, обнесенных оградой, — в них проживали должностные лица капитула. После отчуждения церковных имуществ городское управление превратило проход между домами в улочку под названием Псалетт, соединяющую Монастырскую площадь с Большой улицей. Название «Псалетт» ясно указывает, что когда-то здесь проживал регент хора, певчие и все его подначальные. Левая сторона этой улицы целиком занята одним лишь домовладением, через ограду которого вторгаются в его небольшой садик наружные арки собора св. Гатиана, и трудно решить, что было построено раньше — собор или это древнее жилье. Но, рассмотрев наличники и форму окон, дверную арку и общий вид этого дома, потемневшего от времени, археолог определит, что дом всегда составлял одно целое с великолепным зданием, к которому примыкает. Любитель древностей, если бы таковой имелся в Туре, одном из городов Франции, наиболее чуждых литературным интересам, мог бы даже распознать у входа в улочку остатки аркады, которая составляла раньше портал этих помещений церковного притча и, по-видимому, гармонировала с общим обликом здания. Расположенное к северу от св. Гатиана, жилище это постоянно находится в тени высокого собора, который время одело своим темным покровом, изрезало морщинами, пропитало холодной сыростью, одело мхом и сорняками. Дом всегда погружен в глубокое молчание, нарушаемое лишь колокольным звоном, церковным пением да криками галок, гнездящихся на колокольнях. Все это место — весьма своеобразная каменная пустыня, где могут обитать лишь существа совершенно опустившиеся или же, напротив, наделенные необычайной силой духа.
В доме, о котором идет речь, всегда жили священники, а принадлежал он некоей старой деве, мадемуазель Гамар. Хотя отцом мадемуазель Гамар эта недвижимость и была приобретена от государства во время террора, но дочь в течение двадцати лет сдавала дом лишь священникам, поэтому при Реставрации никто не находил предосудительным, что столь благочестивая женщина продолжает владеть конфискованным имуществом. Быть может, в церковных кругах предполагали, что она намерена завещать свой дом капитулу, а миряне считали, что дом, в сущности, и служит своему первоначальному назначению.
Итак, аббат Бирото направлялся к дому мадемуазель Гамар, где он проживал уже два года, — а до того времени в продолжение двенадцати лет это жилище было лишь предметом его вожделений — erat in votis[3], — как ныне — должность каноника.
Стать пансионером мадемуазель Гамар и стать каноником — к этому сводились две главные цели его жизни. Быть может, к подобным целям и вообще сводятся все стремления священников, которые, считая жизнь как бы странствием в вечность, не могут желать в этом мире ничего, кроме хорошего ночлега, хорошего стола, чистой одежды, башмаков с серебряными пряжками, — словом, того, что требуется телесными нуждами, а в придачу — сана каноника, чтобы удовлетворить честолюбие, это неизживаемое чувство, которое, как полагают, последует за нами до самого престола господня, ибо есть чины даже среди ангелов. Но вожделение к жилищу, теперь им занимаемому, — чувство, которое показалось бы мирскому человеку столь мелким, — было у него какой-то страстью, чреватой противоречиями, надеждами, восторгами и угрызениями совести, как все самые преступные страсти.