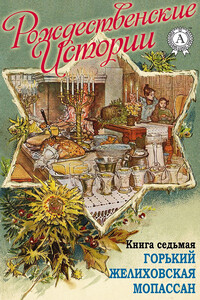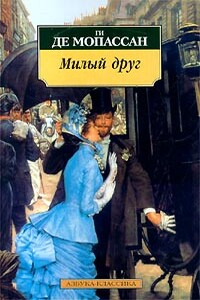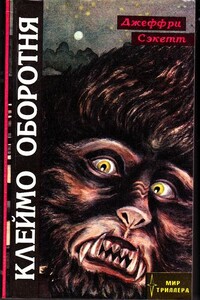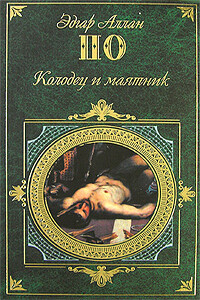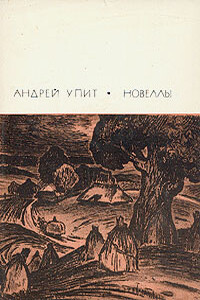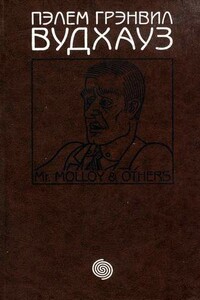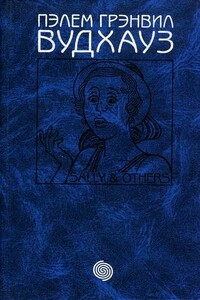Прежде чем достигнуть Туниса, железная дорога пересекает великолепную гористую местность, поросшую лесами. Описав несколько огромных петель и поднявшись на высоту в семьсот восемьдесят метров, откуда открывается обширный, великолепный пейзаж, она проникает на территорию Туниса через Хрумир.
Тут начинается чередование гор и пустынных долин, в которых некогда стояли римские города. Вот сначала развалины Тагасты, родины блаженного Августина[1], отец которого был декурионом[2].
Дальше идет Тубурсикум Нумидарум, руины которого покрыты круглыми зеленеющими холмами. Еще дальше Мадаура, где в конце царствования Траяна[3] родился Апулей. Не перечесть всех мертвых городов, мимо которых проезжаешь на пути в Тунис.
Вдруг, после долгих часов пути, на низкой равнине возникают высокие арки полуразрушенного, местами уничтоженного акведука, который некогда тянулся от одной горы до другой. Это Карфагенский акведук, о котором говорит Флобер в Саламбо. Потом дорога проходит мимо красивого селения, следует берегом сверкающего озера, и наконец показываются стены Туниса.
Вот мы и в городе.
Чтобы охватить взглядом его общий вид, надо подняться на ближний холм. Арабы сравнивают Тунис с разостланным бурнусом; сравнение удачно. Город простирается на равнине, слегка волнистой из-за неровностей почвы, так что местами над ней выступают края большого пятна, образуемого белесыми домами, над которым высятся купола мечетей и башни минаретов. Едва различаешь, едва догадываешься, что это дома, до такой степени это белое пятно кажется сплошным, непрерывным, разлившимся. Три озера вокруг него сверкают под ярким восточным солнцем, как три огромных стальных щита. На севере, вдали, — озеро Себкра-эль-Буан; на западе — Себкра-Сельджум, на юге, за городом, — большое озеро Бахира, или Тунисское; дальше к северу — море, глубокий залив, тоже похожий на озеро в обрамлении далеких гор.
И повсюду вокруг этого плоского города тянутся топкие болота, полные разлагающихся нечистот, — невообразимое кольцо гниющих клоак, голые низменные поля, где извиваются наподобие змеек узкие блестящие ручьи. Это сточные воды Туниса, разливающиеся под синим небом. Они текут непрестанно, заражая воздух, и катят свой медленный зловонный поток по землям, пропитанным гнилью, к озеру, которое они заполнили и насытили на всем его протяжении, ибо опущенный в него лот погружается в тину почти на восемнадцать метров; приходится постоянно прочищать канал в этой топи, чтобы через нее могли пройти небольшие суда.
И все же в яркий, солнечный день зрелище города, лежащего среди этих озер, на этой обширной равнине, замыкаемой в отдалении горами, самая высокая из которых, Загуан, зимою почти всегда увенчана облаками, производит, пожалуй, самое захватывающее, самое волнующее впечатление на всем побережье африканского материка.
Спустимся с нашего холма и войдем в город. Он состоит из трех совершенно отдельных частей: французской, арабской и еврейской.
На самом деле Тунис — не французский и не арабский город, это город еврейский. Это одно из редких мест на земном шаре, где еврей чувствует себя дома, словно на родине, где он почти явный хозяин, где он держится со спокойной уверенностью, хотя еще немного боязливой.
Особенно интересно видеть и наблюдать его здесь, в этом лабиринте узеньких улочек, где движется, суетится и кишит самое яркое, пестрое, расфранченное, переливающееся всеми цветами радуги, драпирующееся в шелка красочное население, какое только можно встретить на всем этом восточном побережье.
Где мы? В стране арабов или в ослепительной столице Арлекина, наделенного высоким художественным чутьем, друга живописцев, неподражаемого колориста Арлекина, который забавы ради вырядил свой народ с умопомрачительной фантастичностью? Этот божественный костюмер побывал, наверно, и в Лондоне, и в Париже, и в Петербурге, но, вернувшись оттуда, полный презрения к северным странам, расцветил своих подданных с безошибочным вкусом и с беспредельным воображением. Он не только пожелал придать их одеждам изящный, оригинальный и веселый покрой, но и применил для раскраски тканей все оттенки, созданные, составленные, придуманные самыми утонченными акварелистами.
Одним лишь евреям он предоставил резкие тона, хотя и запретил им слишком грубые сочетания цветов и с благоразумной смелостью ограничил яркость костюмов. Что же касается мавров, его любимцев, флегматических торговцев, восседающих в своих суках[4], или проворных юношей, или медленно шествующих по маленьким улочкам тучных горожан, он разодел их, забавы ради, в такие разнообразные ткани, что глаз, глядя на них, пьянеет, как певчий дрозд от винограда. Для них, для этих славных восточных людей, для этих левантинцев — метисов, происшедших от турок и арабов, — он собрал целую коллекцию оттенков, таких тонких, нежных, спокойных, мягких, бледных, блеклых и гармоничных, что прогулка среди них — истинное наслаждение для глаз.
Вот бурнусы из кашемира, переливчатые, как потоки света, и тут же лохмотья, великолепные в своей нищете, рядом с шелковыми геббами (длинными, спускающимися до колен туниками) и мягкими жилетами, облегающими тело под курткой, обшитой по бортам мелкими пуговками.