Наран проснулся оттого, что снова зачесалось лицо.
Сон упорхнул вверх, к отверстию в юрте, стал одной из звёзд. Мальчик лежал, разглядывая полог и выжидая, пока уляжется зверь, который две минуты назад шершавым и болезненным языком вылизывал его лицо. Небосвод качнулся в сторону рассвета — Наран заметил хвост бегущей собаки из четырёх мелких, похожих на семена мака, звёздочек.
Наконец, поднял руку и как можно более отстранённо, чтобы не почуял зверь, потрогал лицо. Шрамы никуда не делись. Один пересекал щёку и левую глазницу, другой, располовинив ухо, исчезал и возникал вновь безобразными бороздами на шее. Провёл пальцем по единственному усу, бегущему по левой ото рта стороне, словно тоненькая струйка крови. Справа что-то повредилось, и, когда пришло время, волоски там так и не показались. Было время, Наран считал отсутствие одного уса главным своим увечьем — теперь же свыкся, как свыкается хромой от рождения с неспособностью бегать.
Чаще всего зверь приходил в виде крота с морщинистым розоватым телом, покрытым короткой шёрсткой. Крот становился на грудь, когти оставляли под кадыком вмятины, как будто Наран был не из мяса и костей, а из сырой глины. Грудь сдавливало так, будто на неё наступила лошадь. Точно такое же чувство было, когда бешеная лисица едва не вырвала вместе с рёбрами лёгкое.
Из маленькой пасти выпадал неожиданно большой язык. Словно червь, полз он по щекам мальчика, сдирая кожу и впитывая в себя сукровицу, а тот лежал и боялся пошевелиться. Вдруг животному приспичит вцепиться зубами ему в нос?..
Во сне шрамов не было, но по пробуждении он их неизменно находил — старые и уродливые, отчаянно чешущиеся под загрубевшей коркой.
В шатре ещё все спали, и дыхание сна смешивалось с остывающими углями. Наран, как младший сын, не имел пока ещё права на собственный шатёр и потому ютился в семейном, возле самой перегородки, что отделяла мужскую половину от половины для жён и дочерей. Несмотря на то, что был уже взрослым по меркам кочевых племён. Шатёр будет сшит силами аила, когда хотя бы одна жена родит ему хотя бы одного сына.
Пока же у Нарана не то, что сына, — жены не было. В его положении завести её было не так-то просто.
Войлочная постель накопила за ночь тепло, лежать было приятно, и даже насекомые, обычно очень кусачие в начале ночи, угомонились. Страшный сон всё ещё свербел в носу, и Наран решил не закрывать глаз и ещё немного полюбоваться на небо. Осенью, даже когда сезон дождей растает во рту Великой степи, будто спелая ягода или комочек снега, нечасто получается увидеть такое чистое небо.
— Мы, — говорили старики, — дети степи. Наш народ приручает другие народы, чтобы жить с ними в согласии. Народ овец даёт нам шерсть, народ коз и кобылиц — молоко, а жеребцы возят нас на своих спинах. Мы даём им организованность и крепкую руку, на которую они всегда могут положиться.
Наши лица плоские, как степь. Мы и есть отражение степи, мы и есть её любимые дети.
Наран часто думал, что теперь он не похож на дитя степи. Мама-степь не может быть так уродлива, её не могут пересекать столько оврагов и пучить, как живот больного младенца, столько всхолмий. Плавного течения её рек не вправе нарушить никто. Она не может вонять гнилым мясом.
В первые дни после несчастья Наран думал: может, мама-степь не примет его обратно, и быстрый конь скинет его на землю. Или коршун выклюет второй глаз, и аил бросит его умирать. Но ничего такого не случилось.
В степи главным хищником был человек, на быстроногих конях носился он по её бескрайнему покрывалу. И ни один зверь не осмеливался подойти к грозным юртам, о которые спотыкался даже ветер, а солнце почтительно короновало их тенями, похожими на высокие меховые шапки.
Однако лисица, которую ради забавы решили загнать несколько мальчишек, об этом не знала. Поначалу охотники действительно видели только её хвост, рыжий с белым кончиком, и уже примерялись, кто ловчее может за него ухватить. На троих у них имелся тупой нож в ножнах и две палки, одна из которых была «счастливой», поскольку Наран сбил ей двух или трёх странников-голубей. Это слово он вырезал на палке, а ещё сделал отцовским кинжалом удобную ручку, а ещё пустил по всей её длине простой узор, похожий на след, который остаётся в траве от убегающего зайца.
Лисица, обежав куст орешника, кинулась на своих преследователей. Друзья бросились врассыпную, побросав оружие, а Наран, не успевший сообразить, почему вместо лисьего хвоста перед лицом щёлкают клыки, грохнулся на спину.
Сначала она искусала руки. Кровь брызгала лисице на грудь, залила ей все уши и оставила капли на языке в глубине раззявленного рта. Потом метнулась к груди, разорвав одежду и раскорябав до мяса всю правую половину тела. Может быть, её привлёк стук сердца, может быть, хриплое дыхание. Наран заорал, и тогда она вознамерилась откусить ему язык, но промахнулась, и мальчик лишился уха, от которого остались только лоскуты.
Возможно, брат Тенгри, бог шутих, отметил тот ореховый куст какой-то своей меткой, потому как один из мальчишек, бросившийся было в слезах наутёк и случайно наткнувшийся на гибкие ветки, развернулся и через миг голыми руками уже отдирал лисицу от Нарана.
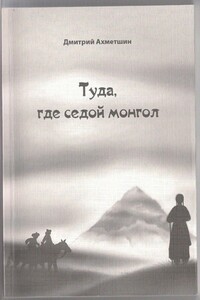



![Заново, как в первый раз [Сборник рассказов]](/storage/book-covers/1d/1db5853eb539219fc1293ff72e212d8f9eba91c0.jpg)











