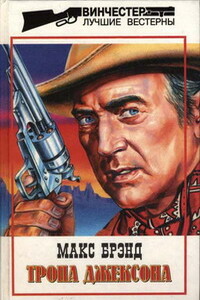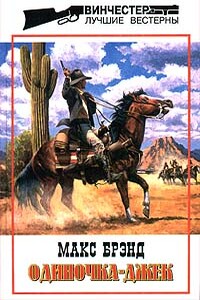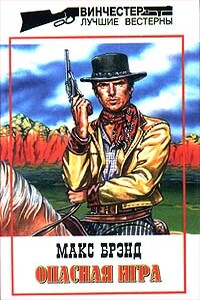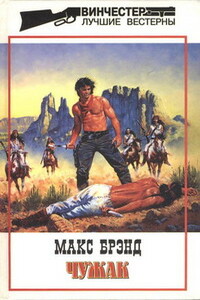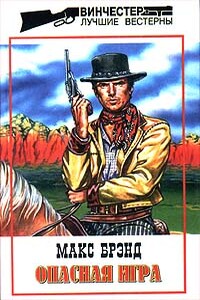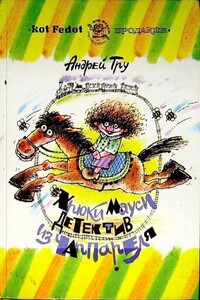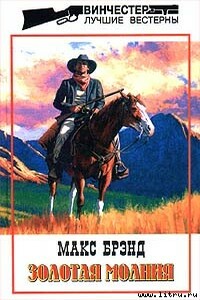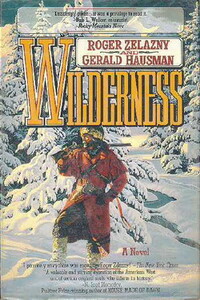На всем пути, который сначала проходил по пустыне, извиваясь между застывших потоков лавы и песчаных барханов, затем у подножия гор к проходу в них, известному как Перевал Джексона, и открытую местность, покрытую зеленью, потом по приветливой долине, в небе над которой всегда висели дождевые облака, и, наконец, среди вершин, пересекая потоки, питающие зелень на склонах, Ларри Барнсу все же удавалось удерживаться от охотничьей своры, следующей за ним по пятам, на приличном расстоянии.
Его преследователей с полным основанием можно было назвать охотниками, потому что они гнались за ним с собаками. Псы бежали впереди, а за ними скакала дюжина специально отобранных парней, среди которых один был с волосами настолько светлыми, что они казались седыми, и бровями почти серебряного цвета. Губы его были все время плотно сжаты в суровую складку, словно он неотрывно бился над решением трудной задачи.
Образ этого узкоплечего мужчины с кожей грязно-сероватого оттенка и неумолимыми глазами ни на миг не выходил из головы Ларри. Когда он впервые услышал лай и завывания собак, то сразу понял, что ему — крышка. Теперь не помогут ни быстрая езда, ни изощренный в уловках ум, ни отличное знание местности. Эта обреченность терзала и мучила его душу. Свора отлично натасканных собак и отряд вооруженных людей во главе с маршалом Тексом Арнольдом, умеющим хорошо рассчитывать наперед свои ходы, не оставляли ему ни единого шанса.
И все же Барнс продолжал упорствовать.
Он проехал более двухсот миль и ухитрился дважды поменять лошадей. Свежих брал без спроса. Просто ловил их там, где они ему попадались. Что значит такой пустяк, как кража лошадей, для человека, обвиненного в убийстве, на запястьях которого легкие, почти невесомые стальные браслеты, однако цепкие, как хватка дьявола?
Уж коли Ларри менял лошадей, то отряд шерифа, преследовавший его, наверняка должен был делать то же самое.
Теперь, когда Барнс выбрался на открытое место за перевалом, крики людей и собачий лай становились все слышнее по мере того, как преследователи просачивались из узкого горного прохода в долину и рассыпались по ней широким фронтом.
Ларри облизал губы, ощутив на языке едкий вкус пота и крови. Он изнывал от жажды. Прошло полдня, а то и больше, как он пил последний раз. Ужасное изнеможение, ощущавшееся во всем теле, усиливалось обезвоживанием, вызывая страшную сухость в глотке. Но облизав губы, он повернул голову туда, откуда доносился собачий лай, и ощерился в ухмылке.
Барнс твердо решил, что умрет, сражаясь.
Ларри знал все о камере, где совершаются казни. Только ее стен он и боялся. Не самой смерти, не пугающего своей простотой процесса повешения, даже не того момента, когда на шее завязывают узел и предлагают сказать последнее слово, если, конечно, есть что сказать и найдутся силы, чтобы заставить ворочаться язык.
Он хорошо представлял, какими должны быть эти его слова: «Я жил на свой лад. Славные были деньки. А что касается того джентльмена Карсона, то вновь говорю вам: „Я его не убивал!“ Но дело не в этом. Вы сцапали меня — и я с таким же успехом могу умереть за то, чего не делал, как и за то, в чем действительно виноват. Трубка с табаком у меня во рту, я готов выкурить ее, если кто-нибудь зажжет мне спичку. Это все, что я хотел сказать. Я никогда не плясал под чужую дудку, и у меня никогда не было партнеров, кроме одного. Он был честен по отношению ко мне… глупец! А вы все можете катиться к дьяволу! Вот и все, что я могу добавить! А теперь кончайте со мной. И будьте прокляты!»
Вот такую предсмертную речь он готовился произнести.
Ларри так и этак мысленно перебирал ее и не находил ни одного слова, которое хотел бы изменить. В ней все было правдой от начала до конца, потому что он на самом деле не убивал Карсона и у него никогда не было других партнеров, кроме одного.
Ах, если бы только тот его единственный партнер был рядом с ним! Сейчас ему не приходилось бы ни о чем жалеть. Если бы умелые руки этого его помощника, ловкие, как у фокусника, орудовали рядом, он, вне всякого сомнения, мог бы насмехаться над всей мощью закона. Вот и теперь устремился через перевал к дому своего бывшего партнера, как тонущий бросается к плавающим на воде остаткам кораблекрушения. А пока туда добирался, пытался представить, какой ждет его прием.
По отношению к этому другу Ларри не был вполне честен. Точнее, обманул его. Но по прошествии лет мы все склонны забывать плохое, вспоминая только хорошее, и он молил судьбу, чтобы на этот раз было именно так.
Чтобы стало немного легче, Барнс подался в седле вперед. Боль в ногах выше колен по всей длине берцовых мышц была такой, что невозможно описать. Ее можно было выразить лишь стонами или проклятиями. А тыльная сторона шеи ныла так, словно кто-то ударил по ней дубиной.
Ларри думал, что шея у него болит оттого, что он клюет носом. Дюжину раз за последние двенадцать часов он замечал, как дергалась его голова. Иногда ему казалось, что она вот-вот оторвется от плеч или что от толчков подбородка треснут ребра грудной клетки. Подбородок от этих частых ударов превратился в сплошной синяк. К нему больно было прикоснуться.