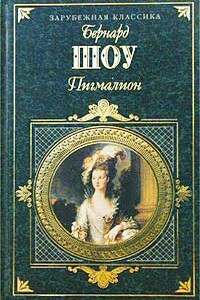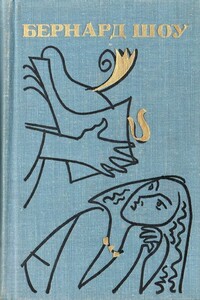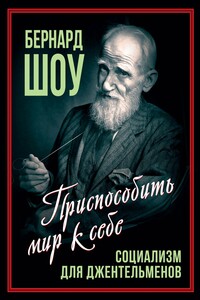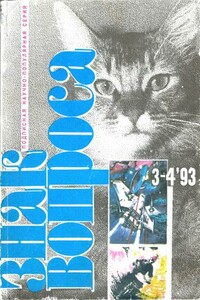Бернард Шоу
Три пьесы для пуритан
ПОЧЕМУ ДЛЯ ПУРИТАН?
Многое изменилось в моей жизни за два года, прошедших с тех пор, как я подарил миру свои "Приятные и неприятные пьесы". Тогда я только что вступил в четвертую годовщину своей деятельности критика лондонских театров. Театры едва не прикончили меня. Я выдержал семь лет борьбы с лондонской музыкой, четыре или пять - с лондонской живописью и примерно столько же с современной литературой, вкладывая в критическую битву с ними все свои силы и умение. Переход к деятельности театрального критика принес мне с точки зрения физических усилий огромное облегчение. Различие между праздностью персидской кошки и лямкой извозчичьей клячи не больше, чем различие между обязательным, раз или два в неделю, хождением театрального критика на спектакли и утомительной ежедневной беготней музыкального критика с трех часов пополудни, когда начинаются концерты, и до двенадцати ночи, когда заканчивается опера. С живописью было почти так же скверно. Как-то раз некий альпинист, взглянув на толстые подошвы моих башмаков, спросил меня, не занимаюсь ли я восхождением на горы. Нет, ответил я, эти башмаки предназначены для твердых полов лондонских выставочных залов. Все же было время, когда в часы, остающиеся свободными от моей деятельности новичка-революционера, я совмещал музыку с живописью, писал пьесы, книги и прочие трудоемкие вещи.
Но театр сбил меня с ног, как последнего заморыша. Я изнемог под его тяжестью, словно рахитичный младенец. Даже кости мои стали разрушаться, и прославленным хирургам пришлось долбить их и скоблить. Я упал с высоты и переломал себе конечности. Доктора сказали: "Этот человек двадцать лет не ел мяса. Ему либо придется есть его, либо он умрет". Я сказал: "Этот человек три года ходит в лондонские театры, душа его опустошена и наперекор природе пожирает тело". И я был прав. Я не стал есть мясо, но отправился в горы, где не было театров, и там я начал оживать. Слишком слабый, чтобы работать, я писал книги и пьесы. Тогда-то и появились вторая и третья пьесы этого сборника. И теперь я гораздо здоровее, чем был когда-либо, с тех пор как впервые в качестве театрального критика переступил роковой порог лондонского балагана.
Почему же так получилось? Что произошло с театром, если здорового человека он может довести до смерти?
Это длинная история, но рассказать ее надо. Начнем хотя бы с того, почему я только что назвал театр балаганом.
Упитанный англичанин, хоть он до самой смерти остается мальчишкой, не умеет играть. Он не умеет играть даже в крикет или футбол; он считает своим долгом трудиться над ними. Именно поэтому он побеждает иностранца, который в них играет. По его понятиям, играть - значит валять дурака. Он умеет охотиться и стрелять, путешествовать и драться. Когда его приглашают на специальные праздничные торжества, он способен есть и пить, бросать кости, волочиться, курить и бездельничать. Но играть он не способен. Попробуйте превратить театр из места поучений в место развлечений, и театр сделается для него не то чтобы настоящим балаганом, но источником возбуждений для спортсмена и сластолюбца.
Однако среди современной столичной публики этот сытый английский недоросль занимает незначительное место. В длинных очередях, в которые каждый вечер выстраиваются около модных театров жаждущие зрители, мужчины вкраплены, как коринка в яблочном пироге. Большинство составляют женщины. Но и те и другие принадлежат к наименее здоровому из наших общественных классов - к тому классу, который получает от восемнадцати до тридцати шиллингов в неделю за сидячую работу и живет или в унылых меблированных комнатах, или же вместе со своими невыносимо прозаическими семьями. Эти люди ничего не понимают в театре: им не свойственны ни нетерпение философа постичь реальность (хотя реальность - это единственное, от чего он хотел бы уйти), ни жажда энергичного действия или удовлетворения, характерная для спортсмена, ни опытная, лишенная иллюзии чувственность упитанного богача, будь он джентльменом или трактирщиком. Они много читают и отлично ориентируются в мире популярных романов - этом рае для дураков. Они обожают красавца мужчину и красавицу женщину; им нравится видеть их обоих модно одетыми, в изысканной праздности, на фоне элегантных гостиных и увядающих садов, влюбленными, но влюбленными сентиментально и романтично: всегда ведущий себя как полагается леди и джентльменам. Все это безнадежно скучно зрителям партера, где места покупаются (если вообще покупаются) людьми, у которых есть собственные костюмы и гостиные и которые знают, что это всего-навсего маскарад, где нет никакой романтики и очень мало того, что интересовало бы большинство участников маскарада, - разве только тайная игра естественной распущенности.
Нельзя как следует изучить зрителей партера, если не принять в расчет, что среди них отсутствует богатый английский купец-евангелист со своим семейством и присутствует богатый еврейский коммерсант со своей семьей.
Я не склонен согласиться с мнением, что влияние богатых евреев на театр хуже, чем влияние богачей любой другой национальности. При прочих равных качествах люди в торговле наживают деньги пропорционально интенсивности и исключительности своего стремления к богатству. К несчастью, те, кто ценит богатство больше, чем искусство, философию и благоденствие общества, обладают, благодаря своей покупательной способности, возможностью влиять на театр (и вообще на все, что покупается и продается). Но нет никаких оснований считать, что их влияние более благородно, когда они воображают себя христианами, чем когда признают себя евреями. О влиянии евреев на театр можно по чести сказать лишь, что оно экзотично и что это не только влияние покупателя, но и влияние финансиста. И потому естественно, что доступ в театр облегчен тем пьесам и исполнителям, которые более соответствуют еврейскому вкусу.