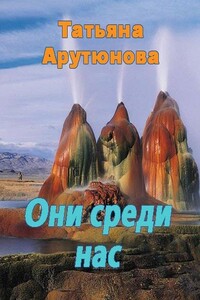— А кто там белые косы по туману распустил и голыми пяткам сверкает? — удивился сторож, оглядывая городскую свалку в бинокль.
— У тебя стекла запотели в тумане. Олька это, беспризорница. Она каждый день Мать Анархию наведывает, — сказал ему напарник.
Сторож протер стекла бинокля. Золотая головка мать–и–мачехи на бледном стебельке качнулась, обрисовалась худенькая девчоночья фигурка с пакетом в руках и ушла в туман еле различимым видением. Потом снова вынырнула из тумана уже с ведром в руках и пошла к ручью.
За туманом не было видно, как старая–престарая бабка по прозвищу Мать Анархия неуклюже протопала в своих растоптанных валенках, набитых газетами, с пакетом в руках, который ей принесла девчонка, в черный вагон пригородного дизель–поезда, сгоревший десять лет назад. На свалке его так и не разобрали до сих пор на металлолом. Вагон так сильно покоробило жаром при пожаре, что на него даже строители не позарились, чтобы соорудить времянку, пока только разворачивается строительство.
Туман медленно окутывал всю свалку. Даже в вагоне узкими полосками стлался по полу этот туман, никуда от него не деться. По рыжим от ржавчины стенкам купе сбегали сгустившиеся капли.
Как в логовище у старой ведьмы, тут висели пучки трав и засушенных корневищ. На печке–буржуйке кипел котелок. Бабка выложила продукты из пакета, помешала булькающее зелье деревянной ложкой, попробовала, утерлась уголком платка, болтавшегося на шее и села на ржавую железную скамейку у занавешенного мешковиной вагонного окошка.
Одернула дерюжку, вперилась невидящим взглядом в плывущий за пустым окном туман и мерно помотала головой, как сонный пассажир в последней электричке. Олька вернулась с ведерком воды, присела на ржавую скамейку, прикрытую картонками, напротив старухи, оперлась кулачком в подбородок и привычно заскучала.
Время от времени она касалась ее ладошкой, чтобы разбудить или удостовериться, что эта высохшая мумия до сих пор жива. Старая бомжиха была вся холодная в набухшей от влаги телогрейке. Только черные глаза горели, как уголья догоревшего костра, по которым залетный ветерок иногда прогоняет ползучий малиновый отсвет давно отгоревшего пламени.
Мать Анархия спала сидя с открытыми глазами и даже видела сны. Чаще всего про тот самый «критический день», переломивший ее жизнь. День тот был окрашен в тона предзакатного счастья. Перед закатом все неверно и непостижимо. Это слишком поздно поняла «святая страстотерпица» с редким именем Вениамина, или попросту Венька, которую потом все знали как древнюю бомжиху с опять же непонятным прозвищем Мать Анархия.
Кто–то сказал, что жизнь это чистый листок бумаги, на котором мы пишем свою биографию. Как у всякого листа, у нее две стороны — изнаночная и лицевая. Лицевую мы заполняем сами, на изнаночной про нас пишут другие.
Швед Мебиус придумал одностороннюю поверхность, у ней изнанки не найдешь. На таких листках пишут биографии пророков и праведников.
Все это, может быть, и так, только вот живого человека не втиснешь в строчки деловой характеристики, потому что есть еще и третья сторона. Она у каждого своя особенная. Она редко проявляется, можно прожить всю жизнь так и не узнав, что же в тебе самом от самого себя скрывалось. Ее невозможно объяснить, потому что она как любовь — кто ее не знал, тот не поймет, а кто хоть раз в жизни встретил — тому и объяснять не надо. Она неуловима и мимолетна, как взгляд незнакомой женщины, промелькнувший в вагоне проходящего поезда.
* * *
Венька когда–то сама выбрала самый полутемный и пустой вагон пригородного дизель–поезда. Темноты и одиночества она не боялась, боялась надоедливых попутчиков. Сердобольные старички и липучие старушки душу вытянут расспросами о жизни. Расспросы эти были для Веньки острее зубной боли. Что за радость выпытывать, когда внутри и без них муторно? Хоть вечерним поездом назад не добирайся, обязательно прилипнут говоруны.
А пустой вагон все прощает, все допускает и все дозволяет.
К чему, когда ты одна, поминутно оглядывать себя и прихорашиваться? Можно запросто вытянуть гудящие от усталости ноги на противоположное сиденье, можно зевнуть, когда тебе захочется, потереть кулаком нос, можно даже потихоньку перекурить в тамбуре, все равно в пустом вагоне тебя никто не заметит.
Курить же Веньке страшно как хотелось, даже остро покалывало в кончиках пальцев, но курева с собой давно не было. Она сегодня не курила с самого утра после того, как в тамбуре вагона, пустом, конечно, перед самым выходом на нужной ей станции тайком — не дай бог кто увидит! — курнула припасенный с вечера окурочек. Но чтобы на работе появиться при всех с сигаретой в зубах — этого она ни–ни! Ведь там на новом месте ее еще никто не знает…
(В старые времена женщина с сигаретой на людях ощущала себя, как раздетая).
На работе у нее есть, конечно, укромные места, где можно незаметно затянуться пару раз, но сегодня как на грех денег не было ни копейки. Собирать окурки — ниже ее женского достоинства. И никакое желание закурить не заставит ее стрелять сигаретку у прохожих мужчин.