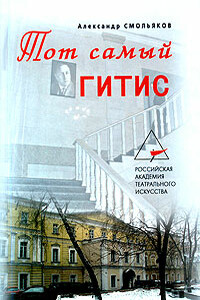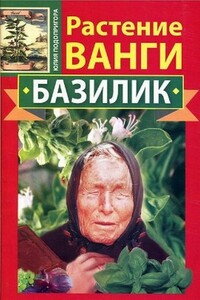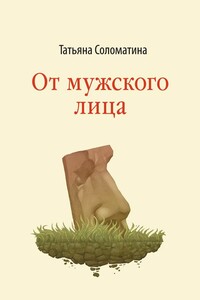Предисловие,
в котором объясняется, почему о ГИТИСе можно и нужно писать роман
…А почему, собственно, нельзя? Чем роман хуже повести, рассказа или поэмы? Как красиво: «Поэма о ГИТИСе»! Начиналась бы она, к примеру, так:
Хотел Гаврила стать актером,
Гаврила в ГИТИС поступал…
Но у нас все-таки будет именно роман. Во-первых, потому, что учебное заведение с более чем вековой историей, несомненно, заслуживает романа. Во-вторых, роман – жанр, увлекательный, а следовательно, «Роман о ГИТИСе» будут читать не только составители энциклопедий, которым нужно будет разбавить дежурные фразы «образован, возглавил, переименован» несколькими живыми деталями, но и студенты, выпускники, а возможно и преподаватели ГИТИСа. Наконец, история ГИТИСа настолько увлекательна и полна интересных, любопытных, примечательных, забавных, трагических, малоизвестных фактов, что становится очевидно: о ГИТИСе можно писать только роман!
Очень быстро стало понятно, что написать роман о ГИТИСе (цени мою откровенность, читатель!) один человек не в состоянии. Во всяком случае, если это выпускник ГИТИСа и он не собирается бросать все свои занятия, удаляться от людей и «в тишине и тайне» ваять свой труд. Поэтому автор этих строк решил пойти путем, может быть, не слишком оригинальным, но зато проверенным. Роман будет написан коллективно. Роман в диалогах.
В своих разговорах мы обычно двигались по оси времени, начиная с момента прихода в ГИТИС и до сегодняшнего дня. Понятно, что одни и те же исторические события люди разных поколений воспринимали по-разному. При редактуре мы принципиально не пытались свести все к единому знаменателю. Пусть у читателя будет возможность увидеть спектр мнений – иногда спорных, иногда субъективных, но высказанных искренне и даже со страстью.
Тема наших встреч была заявлена – ГИТИС, – но русло, по которому текла беседа, определяли сами собеседники. Кто-то вспоминал своих учителей. Кто-то размышлял о современном студенте. Кто-то говорил о перспективах развития театрального образования. Но ведь и одно, и другое, и третье, и многое другое – все это и складывается в понятие «ГИТИС».
В процессе работы над «романом» возникло название «Тот самый ГИТИС». Ведь у каждого есть свой ГИТИС, но есть и нечто «то самое», что объединяет всех студентов и педагогов Российской академии театрального искусства.
Итак…
Глава 1
Его величество Режиссер
Старейший факультет ГИТИСа. В театре ХХ века режиссер стал центральной фигурой, а посему факультет, который готовит таких специалистов, является важнейшим. История факультета знает разные периоды. В его экзаменационных ведомостях – это относится и к студентам, и к педагогам – стоят звездные имена, составившие славу русского театра. Нынешний облик режиссерского факультета сложился, когда кафедру режиссуры возглавлял Андрей Александрович Гончаров. Разговор о прошлом и будущем факультета мы начали с Борисом Гавриловичем Голубовским.
Борис Гаврилович Голубовский
профессор, народный артист России
Нас подстегивало ощущение необходимости
театрального искусства
– Борис Гаврилович, вы пришли в ГИТИС в 1936 году, в то зловещее время, которое в нашем сознании связано с репрессиями. Как это время ощущалось в стенах ГИТИСа? В своей книге «Большие маленькие театры» вы ничего об этом не пишете. Атмосферы страха, действительно, не было?
– Мы ее не ощущали. Мы лишь чувствовали настроение наших педагогов. А сами просто были счастливы. Потому что были молоды. Потому что жили совсем другой жизнью. Надеялись на красивое будущее. Смеялись по поводу этих статей в «Правде», по поводу диспутов о формализме. Нам было немного стыдно за своих учителей, когда они выступали и каялись во всех смертных грехах. А почему это происходило, мы по-настоящему не понимали. Иногда я читаю в каких-то воспоминаниях, что все понимали, мне просто хочется сказать: «Не валяйте дурака! Ничего вы не понимали!» Понимал Попов Алексей Дмитриевич. Понимали Дикий, Каверин. Люди старшего поколения. А я и мои сверстники были патриотами, причем патриотами искренними. Нас было трое самых молодых главных режиссеров в Советском Союзе: Гончаров, Валя Невзоров, тоже мой однокурсник, и я. Андрей к тому же еще был директором театра фронтового. Мы вступили в партию на фронте. А в восьмидесятые годы начался массовый выход из партии с песнями, так сказать, со знаменами. Мы понимали, что вступили в партию в 1942 году, и никто ни тогда, ни теперь, не может нас упрекнуть в карьеризме, в конъюнктурщине, потому что не до того было. Таким образом, с кем мы вступали, – понятно. А с кем рядом мы будем выходить из партии? Помню, разбирали на партийном собрании девочку, которая окончила школу в прошлом году. Проучилась полгода на театроведческом факультете и написала заявление, что она хочет отдать все свои силы строительству коммунизма. А через три месяца она решила не строить коммунизм и уйти. Так мне рядом с ней выходить? Вообще война для нас была вторым ГИТИСом.
– В каком смысле?
А в смысле обучения жизни. Хотя и профессии тоже. Например, у нас* был фронтовой театр миниатюр «Огонек». Он даже попал в энциклопедию Великой Отечественной войны. Когда мы поехали на фронт, нам пошили полувоенные костюмы, сапоги хорошие выдали всем, включая женщин. Выступаем. После ко мне подходит комиссар средних лет и говорит: «Слушай, выбрось ты все эти костюмы. Пусть женщины наденут платья с декольте, чтобы плечи их увидели. И потом не надо нас агитировать бить фашистов». Мы поняли, что людям нужно другое, они и так отдают этому жизнь.