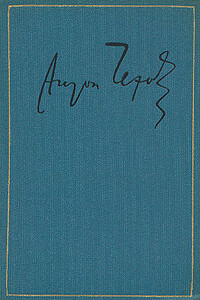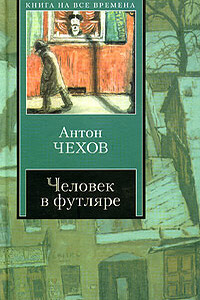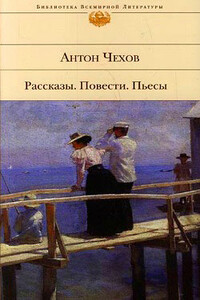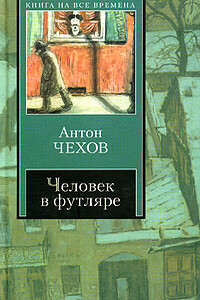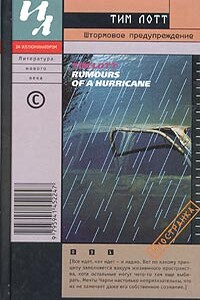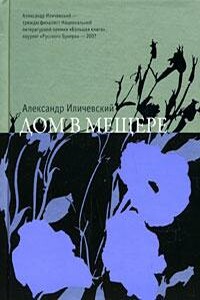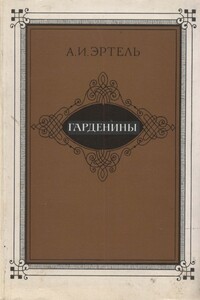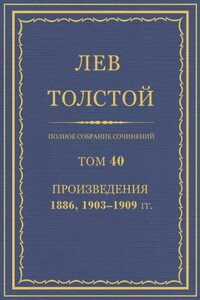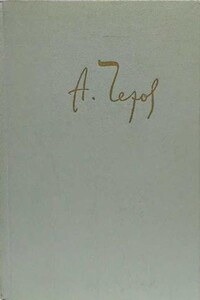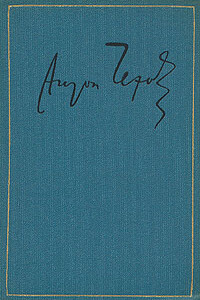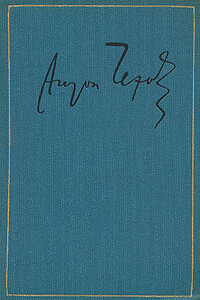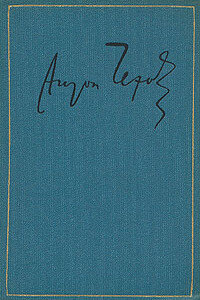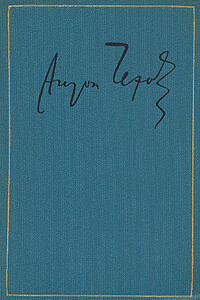Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясыванье. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень.
Навстречу толпе идет «унтер».
— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика. — А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?
— Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом…
* * *
В ложе сидит красивая полная барыня; лета ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой… Одета она роскошно. На белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает ее лакей с галунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полостью… Сытое красивое лицо и обстановка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель!
«Я ряженая, — думает она. — Завтра или послезавтра барон сойдется с Nadine и снимет с меня всё это…»
* * *
За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рук куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив, он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть тысячу, другую. В столовой несколько слуг приготовляют для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к ней. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется? Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах!
«Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженый!..»
* * *
На суде адвокат защищает подсудимую… Это хорошенькая женщина с донельзя печальным лицом, невинная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы… Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя!.. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтоб он не кончил. «Он поэт», — шепчут слушатели. Но он только нарядился поэтом!
«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — думает он. — В роли обвинителя я был бы эффектней!»
* * *
По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет, он ряженый.
«Жрать хочется», — думает он.
* * *
Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастия, как служить науке. «Наука всё! — говорит он, — она жизнь!» И ему верят… Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:
— Теперь я, матушка, профессор. У профессора практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.
* * *
Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают… Храм!
Но этот храм ряженый. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и зубоскальство».
Не верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку, — и я потерял!
Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке, но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний воротник. Да и дешевле, знаете… Несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня incognito. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых…
«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке. — Это не он! Нет, это он! Он!»
Думал я, верил и не верил своим глазам…
Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских… Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам… Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами.
Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его…
Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон.
— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений. Он был француз, но у него была русская душа. Талант!
Ах ты, дрянь этакая!
Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое.
— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набросился он на кондуктора. — У вас свечей нет, что ли? Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Чёрт возьми! Не понимаю, чего это начальство смотрит!