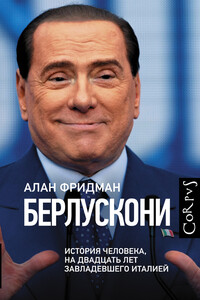Павел Гольдштейн
ТОЧКА ОПОРЫ. В Бутырской тюрьме 1938 года
Он приближается ко мне вроде крадучись.
Что-то от охотника, напрягающего свой слух и зрение.
На голове фуражка с малиновым кантом, на отворотах гимнастерки малиновые нашивки, значок ГТО на груди.
Круто уперся в пол и уставился исподлобья.
«Раздевайся!»
«Раздеваться?»
«Потом будешь разговаривать, раздевайся».
Раздеваюсь, бросаю вещи прямо на пол, и вот уже стою нагишом, придвинулся вплотную к столику. За столиком совсем молоденькая женщина сумрачно косится на меня и даже как будто стыдится.
«Фамилия ваша?… имя, отчество?… Вы какой национальности?… еврей?..»
Адрес какой?… Дом какой?..
«Дом четыре-шесть, квартира семнадцать».
Ее лицо еще строже стало:
«У меня все с вами!»
Оглядываюсь на него.
Он прощупывает обувь, выворачивает рукава, карманы, откладывает в сторону пятьдесят рублей, блокнот с телефонами друзей и знакомых, спарывает подкладку, срезает на брюках металлические пуговицы, крючки, пряжки… Вдруг ко мне: «Вытяни руки!.. Ну, чего дрожишь?»
Силюсь успокоиться и вижу, как женщина губы кусает, чтоб не рассмеяться. Вытягиваю руки. Он прищуривается: «Рот открой!.. Ну, шире!» Пальцами лезет в рот, ищет чего-то. Руку отставил и выгнул кверху.
«Повернись! Ноги раздвинь! Раздвинь задний проход! Не понимаешь?… Руками раздвинь!» «Ну, одевайся!»
Обалдевший, одеваюсь, и пока перепоясываюсь полотенцем, откуда ни возьмись, молодцеватый крепыш передо мной наготове. Он берет меня под руку и выводит в коридор.
«Ну, теперь давай, шагай!»
Теперь шагаем от двери к двери, от комнатушки к комнатушке, до полного одурения.
Узел затягивается: фотографируют в фас и профиль, отпечатывают пальцы, измеряют рост, отличают цвет глаз, волос.
Еще торопливей шагаем по коридору «сабашника». Позднее, у знал, что так прозвали подвальный этаж внутренней тюрьмы — перевалочный пункт приема арестованных). Ну, теперь стой! Остановились у камеры номер семь. К нам подходит коридорный надзиратель. «Принимай! — буркнул крепыш. Скрипит обитая жестью дверь и приотворяется. Меня легонько толкают в камеру.
Сам не знаю зачем, одной рукой цепляюсь за дверь, в другой руке узелок со сменой белья, мылом и зубной щеткой.
У стены на табуретке недвижно сидит военный с небритыми ввалившимися щеками, в измятой, со споротыми петлицами комсоставской гимнастерке. Он поворачивает ко мне голову. „Размещайтесь!“ — говорит он глуховато.
Я гляжу вокруг — три застланных койки, везде на подушках наволочки чистые; у каждой койки по тумбочке и даже воском натертый паркетный пол. Я присел на койку: „А вы тут давно?“
„Недавно. Вчера привезли с Дальнего Востока“. „Что же, собственно, за что?“
Брови резко сдвинулись: —„Не знаю, за что“.
Поглядел перед собой, уткнулся в пол, и ни слова больше.
Сидит недвижно, расставивши ноги, низко наклонив голову, будто бы меня и нет вовсе тут.
Вдруг приоткрылась дверь. Еще гость.
Улыбается, обветренный, в засаленных, вроде кожаных, ватных брюках и в такой же телогрейке и бушлате. На ногах из-под валенок — разноцветные грязные портянки. В руках вещевой мешок. Окинул глазами камеру, стал разбираться. Снял шапку, бросил на койку вещевой мешок, снял бушлат, телогрейку, отряс их, бережно свернул и уложил под подушку. Сбросил валенки, портянки, обтер портянкой ноги. Руки потянулись к тумбочке. На тумбочке пачка „Бокса“. Протянул ее соседу, а тот отчужденно:
— Нет, благодарю… С утра не пью и не курю никогда.
Протянул пачку мне. Я закурил. Мне тревожно. А он, покачиваясь на койке, опять улыбается. „С кем имею честь?“ Я называю себя».
«Очень интересно. А теперь, пардон, о себе: инженер Менделеев! Согласно решению тройки — вредитель. Это не передать сразу… Ну, даже невозможно всего перечислить. Держали год на общих работах. Попадаются и там хорошие люди: начальник разрешил жить за зоной. Работал по специальности. А потом приехала московская комиссия. Всех, кто был по специальности, в штрафную колонну, а некоторых — в центральный изолятор…
— А вас?
— А меня из Ухты сюда. Откуда начал, обратно сюда. Каждый раз, как артист — куда деваться? — снова выходишь на сцену.
— Какая ж в этом цель?
— Цели не вижу. Но, по всей видимости, есть свой смысл. Может быть, новый подвох.
— Что же хотят с вами делать?
— Кто их знает!
— Ну, а вы как?
— Очень рад. По отношению к тому, что там было, — небо и земля. Хоть все сказанное и звучит правдиво, но почему-то не хочется больше расспрашивать инженера Менделеева о его тамошней жизни. А он, втянув голову в плечи, делает вид, будто и сам хочет помолчать. И все же ловлю на себе его общительный взгляд. Вот он с жадностью затянулся, притушил папироску и негромко произнес:
— Можно еще сказать и так: здесь лучше, но не очень хорошо. По-детски посмотрел на меня:
— Тоскуете?
— Тоскую.
— А я разучился тосковать.
Неожиданно щелкнула задвижка, в дверях открылась маленькая фрамуга. Надзиратель протянул жестяную миску.
— Принимайте завтрак.
Менделеев удивительно проворно принял миску, вторую, третью, расставил по тумбочкам. Пахнуло чем-то особенно неаппетитным.
Я с брезгливостью отвернулся: чувствую такое отвращение к серой жиже, что боюсь даже притронуться.