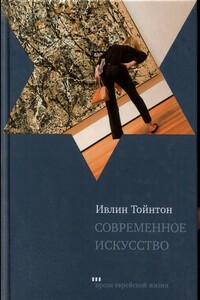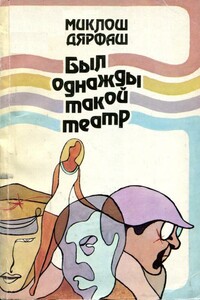Владимир Скрипкин
Тинга
Р о м а н
Журнальный вариант.
Начало
Они приехали рано утром ленивой "московской колбасой". Я слышал их мышиное шуршание и идиотское хихиканье за стеной, прежде чем они робко поскреблись в дверь.
Я знал одну из них, она так много и искренне трудилась, расхваливая меня, мои повадки, этот забытый Богом городок, что своей "высокой" болезнью заразила весь курс. Слава Богу, приехали лишь пять сумасшедших. Но буйных. Стайка перелетных ведьмочек впорхнула в мою комнату, заикаясь от смущения и щебеча по-птичьи. И хоть возбуждение иногда переливалось в нервную дрожь, их юные глазенки горели всепобеждающим любопытством. Табор расположился в мгновение ока. Все было перевернуто, смешано, сброшено, кругом валялись их попугайские рюкзачки, курточки, тапочки, платочки и прочие не опознанные мной объекты.
Перезваниваясь, они ловко накрывали на стол, готовили кипяток, нарезали обрывистые материки бутербродов, беспощадно препарируя сочное чрево отживших свое овощей. Их было можно понять. Позади был бой, нудная студенческая передовая, мир, где покой им только снился. Здесь светло маячили многотрудный отдых, шабаш: веселье, "швабода" от всех и всего в промытом до голубых слез, тонком стакане северного прохладного лета.
Ее я приметил сразу. Азиатка - раз! Неподвижное, застывшее лицо - два! Отмороженная - три! Спит - молчит, ест - молчит, говорит - молчит.
Жизнь шла своим чередом, заворчал и заплевался чайник, во все горло звенели настырные, свежеиспеченные серые комочки воробьев. В окно свежим ветерком с озера билась и лезла ревнивая любовница - весна, но лето даже старой яблоне доказало, что оно уже пришло, смастерив из ее легкого розового дыма горькие тельца маленьких пушистых плодов.
Мой азиатский птенчик невозмутимо внимал смычкам и стонам юного оркестра, ошалевшего от летней легкости и теплоты. Дева еще зрела, но в молочно-восковую спелость уже вошла. Впаянная в джинсы, она стояла, как вода в стеклянной колбе, - в обтяжку, по-девичьи. Рука куртки нежно обнимала талию, кеды по-кошачьи пружинили и подбрасывали ее над полом. Лицо, руки, бедра - отдельно не жили. Она была цельной величиной, как потемневший от времени и конского пота валдайский колокольчик с голубой лентой в бронзовом ухе. Небольшая грудь еще сонно упиралась в полотняную клетку легкой античной рубашки ни разу не стрелянной резиновой пулей. "Хоть в бадминтон играй", подумал я. Ее звали Тинга. Всегда, вечно.
Чай дымился, янтарь прел, мелькали кружки, ложки, всё гремело, сверкало, смеялось и звенело. Ватерлоо! Но Наполеон спал. Так бывает, когда летним ангельским утром в одном месте соберутся пять молодых и здоровых котят. Свалка и дичь. Я попросил девушек не мешать нам и увел Тингу в другое измерение. Дверь, скрипнув зубами, пропустила нас в небольшую комнату. Лицом к стене стояли и молчали, как партизаны, страницы серых холстов. Тинга брала их за тощие интеллигентные плечи и, поворачивая к свету, вглядывалась в незнакомые печальные лики. Я сел на узкую грудь жесткой мужской кровати, рассматривая залетевшее ко мне восточное чудо. Ее лепил случай, и это был скупой мастер. Ничего лишнего, все аккуратно и точно. Вот только глаза, они могли быть глазами европейской женщины, если б не этот опасный разрез да охапки черной ржи вместо ресниц. Хороши были темные мягкие волосы, варварски обрубленные на затылке, которые покачивались вдоль висков крыльями балансирующей на ветке птицы.
- Откуда родом казак? - спросил я.
- Из Москвы, дядечка, живу там с мамой и батюшкой, - мягко усмехнулась она.
- А предки?
- Не знаю. В великое переселение красных и белых сошлись.
Она повернула и приставила к стене небольшую картину, на которой была изображена стирающая женщина с изысканными формами.
- Стирает?
- Блины печет! Что-то не нравится? - Она пожала плечами. - Белье будет чистым, приятно будет надеть.
- Я не об этом, - отмахнулась она. - Очень уж выгодно подчеркнуты формы.
- Ах, это! Женщина как женщина, все при ней. Надоели вареные свеклы с физиономией ярче кумача, хоть цуценят бей.
- Чего? - изумилась она.
- Щенков - по-хохляцки.
Глазки светло брызнули, полыхнули в лицо, зубки белыми камешками сверкнули на темном поле, встали в ровненький белый заборчик. Казак оттаивал.
- Зря ты привязалась к женщине. При чем тут формы? Она одна, даже с формами, без воздуха, зелени, пятен солнца на одежде, этих постирушек, пены на загорелых руках будет неживой и некрасивой. Красота не сама по себе, она не феномен, она общее, то, что внутри, снаружи и вокруг.
- Значит, ты считаешь, что эта женщина прекрасна?
- Конечно, как и ты.
- Я? - изумилась она. - Да я, как статуя индийского божка гладкая, без единой морщинки. У женщин вон какие дыни цветут на груди, не то что у меня...
"Ах, вот в чем дело! - дошло до меня. У товарища проблемы. Пройдет".
- У тебя другая красота, - осторожно повел я. - Ты другой расы, здесь ты - экзотика. Тебя естественней видеть в Тибете, Гоби, у юрты в степи, кормящей верблюжонка, козленка, может быть, даже розовых слоников. Что до дынь, то я не знаю, какая ты станешь, когда родишь. Может, тебя разнесет так, что будут у тебя и дыни, и арбузы, и еще чего похлеще. Но сейчас ты очень красива. Покажи грудь, - попросил я.