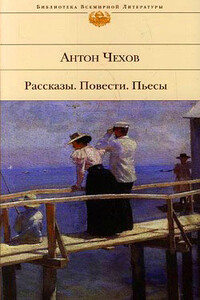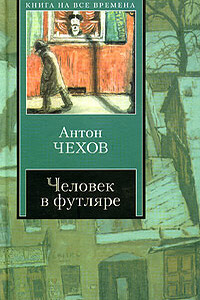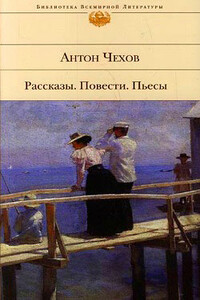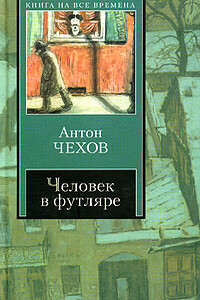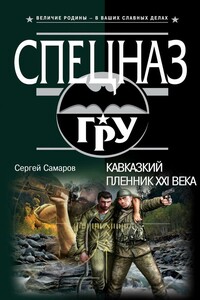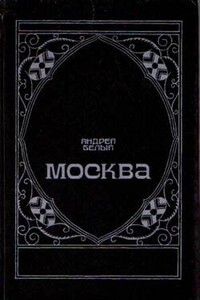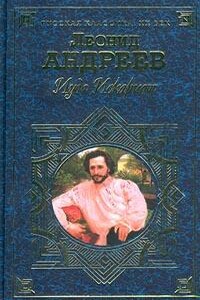В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих, ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям, зажиточный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему:
– Га, вы официр! У меня тоже брат официр, но только он морьяк… Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?
– Я там служу.
– Га! А вы семейный?
– Нет, я живу с теткой и сестрой.
– Мой брат тоже официр, морьяк, но он семейный, имеет жена и три ребенка. Га!
Чухонец чему-то удивлялся, идиотски-широко улыбался, когда восклицал «га!», и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому нездоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон.
«Противный народ эти чухонцы и… греки, – думал он. – Совсем лишний, ни к чему не нужный, противный народ. Занимают только на земном шаре место. К чему они?»
И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом.
Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса:
– Готова почта?
– Готова!
Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр, что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым – всё это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался поудобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим «га!» и вновь засыпал, а ноги поручика всё никак не укладывались на диване, и грозящие образы всё стояли перед глазами.
В Спирове он вышел на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть.
«И как они могут есть!» – думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнущего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, – то и другое казалось ему противным до тошноты.
Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.
Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую погоду.
– Га! – удивился он. – Это какая станция?
– Не знаю, – ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.
– А в Твери когда мы будем?
– Не знаю. Извините, я… я не могу отвечать. Я болен, простудился сегодня.
Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уж более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.
– Почта готова? – донесся издали глухой голос.
– Готова! – ответил бас почти у самого окна.
Это была уже вторая или третья станция от Спирова.
Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, в спину дуло от окна, но, как ни мучительно было, ему уж не хотелось переменять свое положение… Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.