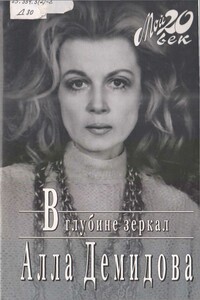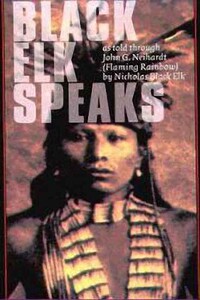Писать откровенно нелегко
Говорить об искусстве актера трудно. Здесь нет объективных теорий.
Почти в каждом искусстве есть свои формальные приемы, имеющие определенные названия, но попробуйте установить основные законы в актерском искусстве: и окажется, что сколько актеров, столько же будет и «теорий», так как каждый имеет свой подход к выражению творческого «я».
Поэтому, говоря о законах актерского мастерства, мы всегда ссылаемся на того, кто эти законы обговаривал: теория Станиславского, школа Вахтангова, методы Мейерхольда, отчуждение Брехта…
К сожалению, в этом списке мало имен актеров. «Классики» писали о профессии актера, уже став режиссерами. Писали о ней также и критики, и психологи (говорят, академик Павлов, изучая механизм перестроек в нервной системе, после обезьян и собак хотел заняться актерами,[1] и литераторы; впрочем, и актеры, наконец, но все как бы со стороны, оценивая только результат. А если и говорили об истоках актерского мастерства, то вскользь, словно боясь потонуть в дебрях терминов, в трясине подсознания и интуиции.
Я тоже не беру на себя смелость выводить непреложные законы актерского мастерства (их, видимо, просто нет!) и делать какие-нибудь поспешные выводы. Но если у читателя к концу моей книги сложится какое-то представление — пусть противоречивое и нелогичное — о профессии актера, которая настолько же нелогична и противоречива, как противоречиво и нелогично о ней пишут, я буду считать, что свою задачу выполнила…
В детстве я записала в своем дневнике: «Какое же это счастье — быть актрисой. Сегодня ты живешь в XVI веке, завтра в XX, сегодня ты королева Англии, завтра — простая крестьянка. Ты можешь по-настоящему пережить любовь, стыд, ревность, разочарование через великие творения и великие роли. Тем самым ты как бы расширяешь свою жизнь. А чем шире и многообразнее жизнь — тем меньше страха перед смертью».
В зрительном зале в театре, когда перед началом открывался занавес, и со сцены чуть-чуть веяло прохладой, я думала: «Вот ведь там, на сцене, и воздух-то другой, особенный». Теперь, стоя за кулисами в ожидании начала спектакля, иногда с температурой, в легком платье на сквозняке (во всех театрах мира на сценах почему-то сквозняк), я в щелочку занавеса смотрю в зал и думаю: «Счастливые! Они сидят в тепле, в уютных мягких креслах и ждут чуда…»
У меня сегодня съемка, а вечером спектакль. Встаю в 6.30 утра, хотя я типичная «сова» и гипотоник и утром потому до 12 вялая, ничего не соображаю и не умею. В 8 часов уже сижу на гриме. Всегда гримируюсь сама, не доверяя это никому. Ненавижу этот процесс ужасно. Каждый раз забываю — с чего начинать и как добиться той характерности, которую задумала. Пытка продолжается часа два. Потом на площадке, опять долго и вяло переругиваясь с режиссером и другими актерами, репетируем, разбиваем сцену на мизансцены и планы. Ставится и проверяется свет.
Я не обедаю во время съемок, поэтому в перерыве опять сижу в гримерной, неприкаянная, в тяжелом парике, стянутая корсетом. Болит голова. После перерыва опять долго собираются, раскачиваются. Что-то приколачивают в декорации, что-то передвигают из мебели, поправляют грим, проверяют свет.
Потом снимают — не мои планы. Я жду. Приблизительно за 40 минут до конца смены приступают ко мне. Крупный план — ставят свет. Болят глаза. Я уже устала. От ожидания и бездействия. Помощник режиссера посматривает на часы. Я опаздываю на спектакль. Наконец — хлопушка. Снимают очень трудный для меня кусок, со слезами, с переходом настроения. Конец. На бегу сбрасываю костюм, парик, почти не разгримировываюсь — некогда, — бегу на спектакль. В машине перебираю в уме только что отснятый кусок и с ужасом понимаю, что сыграла его не так, как нужно и как бы хотела. В самом мрачном настроении влетаю в театр. Вишневый сад». Опять грим, костюм, парик.
Перед началом спектакля, когда мы все стоим за кулисами, мысленно лихорадочно перебираю всю роль, особенно останавливаясь на трудных для меня кусках — «подводных рифах». Выхожу на сцену. С первых реплик своих товарищей понимаю, что многие не в форме — не слушают друг друга. Играют «вполноги». Очень медленно для меня раскручивается первая часть — ожидание приезда Раневской. А мне нужен совсем другой ритм начала спектакля, я в него «впрыгиваю». Раздраженная (хотя в таком настроении почти не могу играть), я пытаюсь «поднять» сцену. Схлестнулись глазами с Высоцким. Он, чувствую, чем-то тоже недоволен. Своим. И еще эта неудобная для меня мизансцена на детском стульчике. Стараюсь скорее этот кусок проскочить. Комкаю слова. Нервничаю. Выход Пети Трофимова. Две-три реплики — у меня очень трудный, один из самых опасных кусков роли — крик, слезы (я не люблю и не умею кричать): «Гриша мой… мой мальчик… утонул. Для чего? Для чего, мой друг?» Продираюсь сквозь вишневые деревья, кресты, кресла, проклинаю про себя режиссера, который придумал эту идиотскую мизансцену: сам бы так каждый спектакль, и думаю только о том, чтобы не зацепить платьем о гвозди, которые натыканы со всех сторон, ругаю себя и рабочих, что так каждый раз — они оставляют гвозди на сцене, а я после спектакля забываю им об этом сказать.