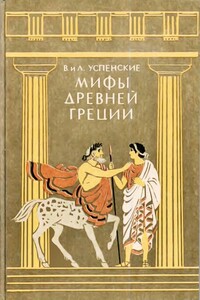О великий суровый Кабинока,
Властелин северного ветра!
Вымети опавшие листья,
Покажи нам звериные тропы.
Духи лесов, покажите нам,
Где цель отыщут стрелы
Из луков наших.
Молитва колдуна
Над раскаленными серыми скалами волновался разогретый воздух, поднимаясь вверх хорошо видимой и почти осязаемой мглой, в которой скрывались окружающие вершины гор. Даже малейшее дуновение ветерка не шевелило высохшими листьями и пожелтевшей травой. Деревья, которые прошлым летом покрывали взгорья пышной зеленью, теперь выглядели как умирающие живые существа. Высохшие, со скрутившейся листвой, они протягивали ветви к безоблачному небу и просили у него немного дождя, хоть каплю влаги, без которой нет жизни.
Ничто не нарушало этой ужасающей тишины. Умолкло в чаще всегда такое радостное птичье пение. Не зашумит ни одно дерево, не зашуршит ни один листок под лапой бегущего зверя. Только иногда высоко-высоко на голубом фоне неба появлялся коричневый стервятник и, сделав над чащей огромный круг, безнадёжно возвращался голодный в свои неприступные скалы. Высохшая и потрескавшаяся земля говорила о большом голоде, посетившем эту страну и прогнавшем всех птиц и животных из родных краёв на земли, более богатые водой.
Индейское селение, раскинувшееся у подножия гор, мало отличалось от окружающей его умиравшей чащи. Не видно было хлопотавших у костров женщин, не слышно было радостного щебета играющих детей. Не видно было шатающихся среди шатров собак, которых обычно много в индейских лагерях. Некогда цветистые шатры, украшенные разноцветными рисунками, теперь, как и всё вокруг, были покрыты серой сухой пылью, она при малейшем прикосновении поднималась в воздух мутным облаком.
Когда-то широкая река, огибающая селение с одной стороны, почти высохла. Только на дне по её руслу струился ручеек – не шире ступни.
В тени шатров неподвижно лежали измождённые, исхудавшие женщины. К ним прижимались маленькие дети, обнимая худыми ручонками иссохшие шеи матерей. Лица малышей ста ли похожи на старческие, глаза потухли.
В селении царил голод.
Напрасно лучшие воины прочёсывали лес вдоль и поперёк, напрасно рыскали по всем каньонам и горным перевалам. Животных нигде не было.
С каждым днём всё меньше оставалось надежды на добычу и всё более росло безразличие ко всему вокруг.
На юге горел лес. Большие клубы дыма закрывали небо, а ночью в той стороне всходила огромная кровавая луна. Воины посматривали на юг и шептали друг другу:
– Добрые духи борются против злых, и поэтому они забыли о нас, а их огненные стрелы летят на высохший лес и сжигают его.
Однако страха люди не чувствовали, хорошо зная, что им скорее суждено умереть от голода, чем от пламени. Подгоняемое ветром, оно медленно приближалось к селению.
Мы тоже лежали неподвижно в своём шатре. Отец запретил нам двигаться, чтобы напрасно не тратить сил, которые могут нам понадобиться в решающий момент. Сам он попеременно с братом Танто приносил нам воду, по очереди поил мать, сестру и последним – меня. Принесённой мне водой я делился с собакой – я не хотел расстаться с ней в эти страшные дни.
Это ужасное время врезалось мне в память. Сначала я чувствовал сильную боль в желудке, потом появлялось ощущение, будто что-то сосёт внутри, подступая к горлу, а позже… и это прошло: я стал безразличен ко всему, и меня охватила непреодолимая сонливость. Помню, как после трёх дней отсутствия возвратился колдун Горькая Ягода и начал бить в бубен на площади перед шатрами, созывая на совет. Отец поднялся с медвежьей шкуры, на которой неподвижно сидел, и направился к выходу. Я наблюдал за ним из-под полузакрытых век. Он шёл таким тяжёлым шагом, словно у него были прострелены обе ноги, а у самого входа пошатнулся так сильно, что, наверное, упал бы, если бы не схватился за висевшие шкуры. При виде этого что-то сильно сдавило мне горло, но я не издал ни звука, только подумал: «Почему я ещё не взрослый? Может быть, я сумел бы как-то спасти племя от голодной смерти».
Слезы подступали к моим глазам, когда я смотрел на исхудавшую мать. Она лежала рядом с сестрой и тяжело дышала.
Я приподнялся на своей постели и заглянул ей в глаза. У неё был невидящий взгляд, и я понял, что Кен-Маниту – Дух Смерти уже стоит перед нашим шатром-типи и лишь выжидает подходящее мгновение, чтобы войти и как первую жертву в нашем селении забрать мою мать – самую слабую женщину племени.
Я переглянулся с братом, и мы без слов поняли друг друга: сейчас только от нас зависело, будет ли жить наша мать и много других матерей и детей.
Я потянулся рукой к ножнам – проверить, при мне ли мой нож. Он был у пояса, как всегда.
– Идём, – промолвил брат и поднялся первый.
Я тоже с трудом встал, и в глазах моих потемнело, голова закружилась… «Падаю», – подумал я и вынужден был схватиться за центральный шест шатра. Но вскоре головокружение прошло и я вышел из типи. Брат уже ждал меня.
Мы направились в сторону леса, где в тени на остатках высохшей травы паслись наши кони. Они стояли с опущенными головами, так же страдая от голода, как и мы. Худые, с запавшими животами, они мало чем напоминали прежних полудиких мустангов. Мы старались сохранить их любой ценой, так как без коней наше преследуемое племя было почти беспомощным. И не только поэтому. Для моих соплеменников, шеванезов, мустанг – не просто конь. Это прежде всего друг и брат, с которым делишь тяготы дальних дорог в холод и зной, в дождь и снег. Поэтому, даже умирая голодной смертью, воин не тронет мустанга. Разве можно спасать свою жизнь ценой жизни друга? Нет, никто из красных воинов не способен на такой бесчестный проступок.