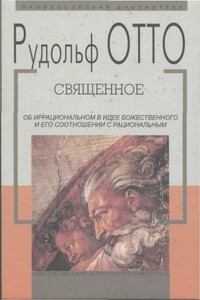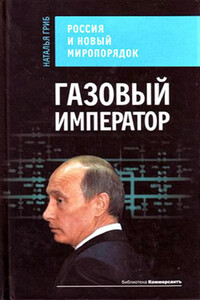Глава первая. Рациональное и иррациональное
Для всякой теистической идеи Бога вообще, а для христианской по преимуществу и исключительно, существенным является то, чтобы посредством нее божество постигалось в ясной определенности и обозначенным такими предикатами, как дух, разум, воля, целеполагающая воля, добрая воля, всемогущество, единосущность, сознательность и им подобными. Дабы тем самым идея Бога мыслилась в соответствии с тем личностно-разумным, каким его — в ограниченной и скованной форме — человек обнаруживает в себе самом. В то же самое время все эти предикаты божественного мыслятся как «абсолютные», т. е. «совершенные». Поэтому все эти предикаты суть ясные и отчетливые понятия, они доступны для мышления и мыслящего разграничения, даже для дефиниции. Если мы назовем рациональным предмет, относительно которого возможна такая понятийная ясность, то описываемая в этих предикатах сущность божества может быть обозначена как Рациональное, а религия, которая его признает и утверждает, будет в этом отношении религией рациональной. Только в ней возможна «вера» как убеждение посредством ясных понятий, в противоположность простому «чувству». По крайней мере, для христианства ничуть не верны слова Фауста:
Ведь чувство — все, а имя — звук и дым.
В этих словах «имя» равнозначно понятию. Однако мы считаем признаком высшего уровня развития и превосходства религии то, что у нее есть также «понятия» и познания (а именно познания веры) сверхчувственного в понятиях — как в указанных выше, так и в других, которые за ними следуют. То, что христианство располагает понятиями, отмеченными замечательной ясностью, отчетливостью и полнотой состава, является не единственной или главной, но весьма существенной чертой его превосходства над другими ступенями и формами религии.
1. Это нужно сразу и решительно подчеркнуть. Вместе с тем следует предостеречь от возможного недоразумения, которое могло бы привести к ошибочной односторонности, а именно от мнения, будто названные выше или им подобные рациональные предикаты исчерпывают сущность божества. Такое недоразумение может проистекать из манеры речи и понятийного мира назидательного языка, ученых проповедей и наставлений, да и из самого нашего Священного Писания. Рациональное находится здесь на переднем плане и часто кажется всем. Но того, что рациональное стоит здесь на первом плане, можно было ожидать с самого начала: ведь всякий язык, насколько он состоит из слов, передает прежде всего понятия. И чем яснее и однозначнее он это делает, тем лучше этот язык. Но даже если рациональные предикаты обычно стоят на первом плане, они настолько мало исчерпывают идею божества, что свое значение и существование они получают только от иррационального. Это предикаты сущностные, но сущностные синтетические предикаты, и их правильно понимают лишь тогда, когда понимают именно как предикаты, т. е. когда их предмет полагается носителем этих предикатов, но сам он в них еще не познан и познан быть не может, он должен познаваться каким-то иным, особенным способом. Он должен каким-либо образом ухватываться, а если бы этого не было, то о нем вообще нечего было бы сказать. Даже мистика, именуя его arreton, по существу этого не придерживается, поскольку иначе она сводилась бы лишь к молчанию. Однако как раз мистика была по большей части весьма словоохотливой.
2. Тем самым мы сталкиваемся с противоположностью рационализма и более глубокой религии. К этой противоположности и отдельным ее признакам нам еще не раз придется возвращаться, но такова первая и самая характерная черта рационализма, с которой связаны все остальные. Явно ложным или, по крайней мере, очень поверхностным является часто проводимое различие, состоящее в том, что рационализм — это отрицание «чуда», а его противоположность — признание чуда. Расхожая теория чуда — как случайного нарушения в естественной цепи причин со стороны той сущности, которая сама же эту цепь установила, а потому должна над нею господствовать, — сама «рациональна» настолько, насколько это вообще возможно. Рационалисты достаточно часто допускали «возможность чуда» в этом смысле и даже априорно ее конструировали. А решительные не-рационалисты довольно часто были равнодушными к «проблеме чуда». Когда речь идет о рационализме и его противоположности, то важнее свойственное им качественное различие в настроении и в содержании чувств самой набожности. А это различие обусловливается прежде всего тем, перевешивает ли рациональное в идее Бога иррациональное в ней или же оно совершенно исключает его, или наоборот. Нередко мы слышим, что сама ортодоксия была матерью рационализма. Отчасти это, в самом деле, верно. Но и это происходит не просто потому, что ортодоксия вообще проистекает из учения и обучения. К ним прибегали и самые неистовые мистики. Важнее то, что при обучении ортодоксия не находит способа каким-то образом воздать должное иррациональности своего предмета, дабы сохранить его в набожном переживании во всей жизненности, что из-за своей явной недооценки иррационального она скорее односторонне рационализирует идею Бога. 3. Такая склонность к рационализации господствует еще и поныне, причем не только в теологии, но и в общем религиоведении, вплоть до самых глубоких областей исследования. Это относится к изучению мифов, религии «дикарей», к попыткам реконструкции исходного пункта и начальных ступеней религии и т. д. Хотя упомянутые ранее высокие рациональные понятия не употребляются при этом с самого начала, но в них и в их постепенном «развитии» видят главную проблему и в качестве предшественников конструируют менее значимые представления и понятия. Но всякий раз внимание уделяется понятиям и представлением, причем «естественным» понятиям, т. е. таким, которые принадлежат общей сфере человеческого представления как таковой. И при этом с энергией и искусством, почти достойными восхищения, закрывают глаза как раз на то, что является собственно религиозным переживанием, ощутимым уже в самых примитивных его проявлениях. Это удивительно или даже изумительно: ведь если в сфере человеческого переживания можно вообще заметить что-то, свойственное этой сфере и поэтому только в ней происходящее, то именно в религиозном переживании. Взгляд противника оказывается здесь, пожалуй, более острым, чем у многих друзей или нейтральных теоретиков. Противная сторона часто очень хорошо знает, что настоящее «мистическое бесчинство» не имеет ничего общего с «разумом». При всем том можно считать благотворным импульсом понимание того, что религия не сводится к своим рациональным высказываниям, как и стремление к выявлению внутреннего соотношения ее моментов — ради прояснения самой религии.