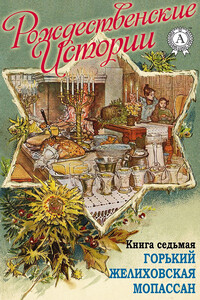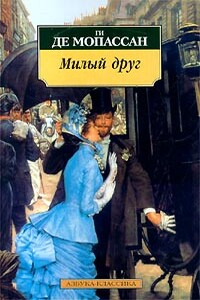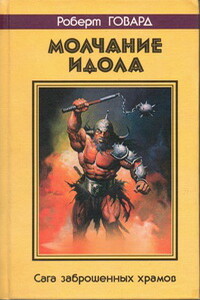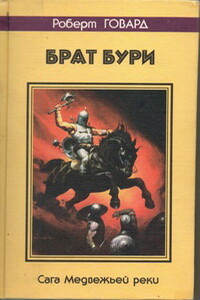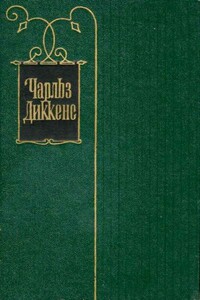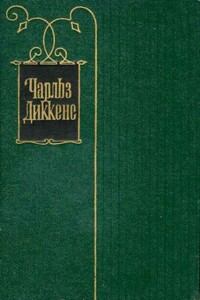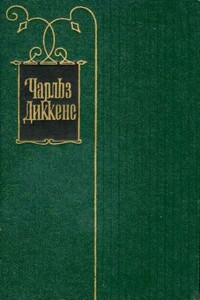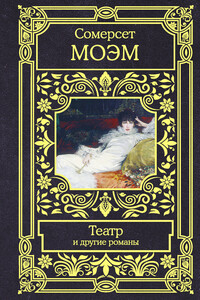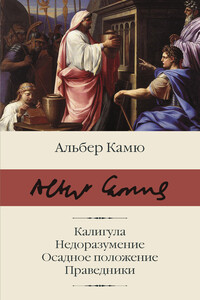Нежаркое осеннее солнце освещало двор фермы сквозь высокие деревья ограды. Трава, ощипанная коровами, блестела от недавнего дождя, земля была пропитана влагой и, сочно хлюпая, расползалась под ногами; тяжелые ветви яблонь гнулись, роняя светло-зеленые яблоки в темную зелень травы.
Четыре телки, привязанные в ряд, паслись на лугу и время от времени мычали, повернувшись к дому; куры пестрой гурьбой копошились перед конюшней, разгребая навоз и кудахтая; два петуха пели без умолку и разыскивали червяков для своих кур, подзывая их убедительным клохтаньем.
Открылась деревянная калитка; появился крестьянин лет сорока, но сгорбленный и весь в морщинах, как шестидесятилетний; он шел медленно, большими шагами, тяжелыми от увесистых деревянных башмаков, набитых соломой. Длинные не по росту руки висели как плети.
Как только он подошел к ферме, желтая шавка, привязанная к высокой старой груше, рядом с бочонком, заменявшим конуру, завиляла хвостом и радостно залаяла. Он прикрикнул:
— Молчать, Фино!
Собака умолкла.
Из дома вышла крестьянка. Шерстяная кофта плотно обтягивала ее ширококостную, плоскогрудую фигуру. Из-под серой короткой юбки, не доходившей до щиколоток, видны были ноги в синих чулках и деревянных башмаках, тоже набитых соломой. Застиранный чепец прикрывал реденькие, гладко прилизанные волосы; на черном, худом, некрасивом лице с ввалившимся ртом застыло тупое и угрюмое выражение, какое часто видишь на крестьянских лицах. Муж спросил:
— Ну как он?
Жена ответила:
— Господин кюре сказал, что теперь уж конец, он и до утра не протянет.
Оба вошли в дом.
Пройдя через кухню, они очутились в комнате, низкой, мрачной, так как свет едва пробивался сквозь окно, занавешенное лоскутом нормандского ситца. Толстые балки, потемневшие от времени и копоти, пересекали потолок из конца в конец, поддерживая жиденький настил чердака, по которому и ночью и днем сновали стада крыс. Земляной шишковатый пол лоснился от сырости; в углу комнаты смутным пятном белела кровать. Там в потемках умирал старик, отец крестьянки; оттуда доносилось тяжелое дыхание, глухой равномерный хрип со свистом и захлебыванием, напоминающий шум испорченного насоса.
Муж и жена подошли к умирающему и уставились на него покорным, равнодушным взглядом.
Зять сказал:
— Ну, теперь кончено, ему и до утра не дотянуть.
Крестьянка заметила:
— С самого полдня он вот так хрипит.
Они замолчали. Отец лежал с закрытыми глазами; землистое, иссохшее лицо казалось выточенным из дерева. Неровное дыхание с трудом вырывалось из полуоткрытого рта, простыня небеленого полотна приподнималась на груди от каждого вздоха.
После долгого молчания зять произнес:
— Придется ждать, пока не кончится. Ничего не поделаешь. Не знаю только, как теперь быть с сурепкой, погода стоит хорошая, надо бы завтра полоть.
Жену встревожила эта мысль. Подумав немного, она заметила:
— Если он нынче помрет, раньше субботы его хоронить не станут, — значит, для сурепки у тебя весь завтрашний день.
Крестьянин долго раздумывал, потом снова заговорил:
— Так-то оно так, а только завтра надо будет звать на похороны; меньше чем за шесть часов мне не управиться, — пока-то обойдешь всех от Трувиля до Мането.
Жена, подумав минуты две-три, ответила:
— А ты начни сегодня, обойди турвильскую сторону, — успеешь засветло, сейчас только начало третьего. Говори, что он уже помер, ведь ему и до вечера не прожить.
Муж колебался некоторое время, взвешивая все доводы «за» и «против». Наконец решился.
— Ну что ж, пойду.
Он собрался уходить, потом вернулся и сказал, помявшись:
— Раз тебе нечего делать, натряси яблок, испечешь сорок восемь пышек для тех, кого позовем на похороны. Надо же будет закусить. На топку возьмешь хворост, что лежит под навесом, возле давильни. Он сухой.
Из комнаты он прошел на кухню, открыл шкаф, достал шестифунтовую ковригу хлеба, осторожно отрезал ломоть, собрал в руку крошки и ссыпал их в рот, чтобы ничего не пропадало даром. Потом зацепил на кончик ножа чуть-чуть соленого масла из глиняного горшка, намазал его на хлеб и стал жевать так же неторопливо, как он делал все.
Он еще раз пересек двор, унял собаку, которая опять залаяла, вышел на дорогу, проходившую мимо фермы, и зашагал по направлению к Трувилю.
Оставшись одна, жена принялась за работу. Она открыла ларь с мукой и замесила тесто для пышек. Месила долго, переваливая с руки на руку, мяла, распластывала, Наконец, скатав большой желтовато-белый шар, положила его на край стола; потом отправилась за яблоками и, чтобы не повредить веток шестом, залезла на яблоню, приставив к ней лесенку. Она рвала яблоки с разбором, снимая только самые спелые, и складывала их в передник. С дороги ее кто-то окликнул:
— Эй, тетушка Шико!
Она обернулась. Сосед, дядя Озим Фаве, деревенский мэр, ехал в поле на телеге с навозом, свесив ноги через ее край. Она обернулась:
— Что скажете, дядя Озим?
— Ну как отец, жив еще?
Она крикнула:
— Да почитай что помер! Хоронить будем в субботу утром, в семь часов, — с сурепкой торопиться надо.
Сосед отозвался:
— Понятно. Всего вам хорошего. Будьте здоровы!
Она ответила так же вежливо: