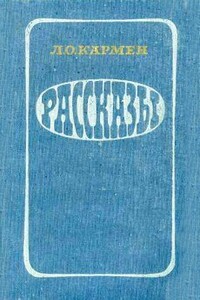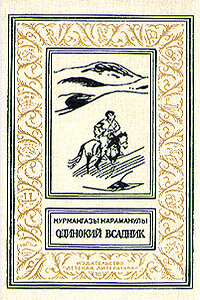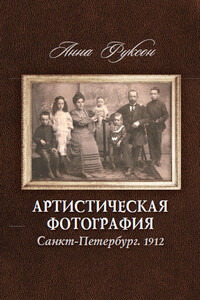Мы перекочевали в Елань, когда мне было восемь лет. Долго, будто суденышко в шторме, мотало нашу семью по северам, по медвежьим углам – по стройкам, партиям и приискам. И вот, наконец-то, – тихая гавань, о которой так мечтала мама и которая совсем не по сердцу была папке – неисправимому бродяге и непоседе.
Елань хотя и большой поселок, но по-деревенски тихий. Лишь на берегу реки пыхтел, скрежетал и чихал, как старый дед, лесозавод. Он неспешно и лениво всасывал в свое металлическое нутро бесконечный караван бокастых бревен, которые с важностью тянулись по воде, и выбрасывал из себя золотисто лоснящиеся доски, вихри опилок и кучерявых стружек.
Месяц назад мы приехали в Елань, пожили в тесном доме у маминого брата дяди Пети и сегодня переезжаем на новую квартиру. Папке, устроившемуся на завод грузчиком, ее дали вне очереди, потому что мы большая семья.
Июньский день. Жаркий ветер. Серые кучи стружки хрустят под колесами телеги, в которую запряжена старая, с плешинами на ребристых боках лошадь. Телега высоко наполнена вещами. На самой их макушке, на подушках, сижу я, прижимая к груди кота Наполеона и кошку Марысю, и сестры Лена и Настя с куклами. Они показывают вприпрыжку идущим за нами мальчишкам языки. Внизу, на лежащей на боку тумбочке, сидит мама с хнычущим Сашком. Ему хочется к нам, но мама не позволяет, опасаясь, что он свалится.
– Хочу на поюшку, хочу на поюшку… – зарядил брат.
Я иногда шепчу ему:
– Рева – корева!
Он плачет громче. Мама смотрит на меня, сдвинув брови к переносице, и обещает наказать.
Сестра Люба то и дело отворачивает свое красивое розоватое лицо от мальчишек подростков, которые засматриваются на нее. Она краснеет под их влюбленными взглядами. Идет рядом с папкой и несет в руках накрахмаленное платье, которое боится помять. Один парнишка так засмотрелся на нее, что ударился лбом о столб.
– Крепкий? – спросил у него папка.
– Что?
– Столб, спрашиваю, крепкий?
– Не очень, – смущенно улыбнулся паренек. – На моей улице крепче.
– Тпр-р! – сказал папка. Лошадь остановилась возле большого щитового дома. Здесь нам и жить.
В кучке глазеющих на нас ребятишек я увидел хорошенькую девочку лет десяти, которая выделялась своим белым шелковым платьем. Ее звали Ольгой Синевской. Она пальцами сделала рожки и показала мне язык. Я ответил ей тем же. Неожиданно схватил большущий чемодан, напрягся от невероятной тяжести, но пытался улыбнуться. Косил глаза в сторону Ольги: смотрит ли она на меня и как? Войдя во двор, упал на чемодан, не донеся его до места, и отчаянно выдохнул:
– У-у-ух!
Возле телеги, которую папка и я разгружали – мама и сестры ушли смотреть огород, – крутился какой-то странный мальчишка. У него худощавое, темное, словно шоколадом вымазанное лицо. Глаза зеленоватые, бегающие, часто зорко прижмуривались. Одет очень бедно: в прожженную, не с его плеча куртку, поношенные брюки, развалившиеся ботинки. Этот мальчишка, которого все звали незнакомым мне словом Арап, то подходил к телеге, то отходил, посвистывая. И вдруг я заметил, как он быстро сунул в карман мою оранжевую заводную машинку.
– Папка! – крикнул я, – вон тот, черный, игрушку украл.
Папка остановился, держа во взбухших от натуги руках тюк с бельем.
– А ну-ка иди сюда, братец, – позвал он Арапа и положил тюк.
– Я, что ли?
– Ты, ты. Давно, голубчик, за тобой наблюдаю.
Арап, указав пальцем за наши спины, неожиданно закричал так, словно его посадили на раскаленную печку:
– Ай-ай! – И кинулся к телеге, как я понял, прятаться: – Берегитесь!
От его страшного вопля у меня внутри все словно оборвалось. Я и папка резко – у папки даже что-то хрустнуло – обернулись назад. Но ничего ужасного перед нашими глазами не было. На заборе сидел Наполеон и поглядывал на воробья, чистившего перышки на бельевой веревке. Мы посмотрели на Арапа, вылезавшего из-под телеги. Детвора смеялась.
– Фу-у! Во я молоток! Если бы не заорал, коршун утащил бы тебя, – пояснил Арап мне.
– Коршун?! – враз спросили я и папка.
– Ну да! Он падал на вас. Сейчас сидит на крыше, вон за той трубой.
– Гх, гх! – В усах папки шевелилась улыбка.
– Вы, дяденька, подумали, что я у вас чего-то стибрил? Так обшарьте!
Я подбежал к телеге – машинка лежала не в том месте, куда, помнится, я положил ее. Все, конечно, стало ясно. Папка расхохотался и хлопнул Арапа по спине:
– Вообще-то, молодец! Шуруй отсюда! Но запомни, дружище: поганое дело – воровать.
– Не, не, дяденька, точно ничего не брал. А вы, что спас вашего сына, дайте мне закурить.
– Проваливай, проваливай.
Из переулка вышла, покачиваясь и напевая, не совсем трезвая женщина в несвежем, непроглаженном платье, в стоптанных туфлях. На ее красивые большие глаза спадали спутанные черные волосы, и она их резким взмахом головы откидывала назад. Женщина была молода, но ее привлекательное, смуглое лицо выглядело несколько помятым.
– Господи! – сказала мама, выглянув из ворот, – до чего же опускаются женщины.
Папка неопределенно усмехнулся.
– У нее, наверное, имеются дети, – нахмурила мама высокий белый лоб. – А что из них получится при такой-то родительнице?
Женщина подошла к маме с папкой. Поправляла платье и волосы, пытаясь выглядеть трезвой.