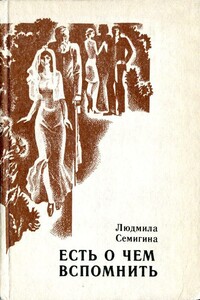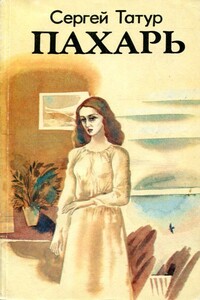Родился в июле 1926 года в Подмосковье, в деревне Кирилловке, где и воспитывался у бабушки и деда до десятилетнего возраста. Бабушка — воплощение доброты — маленькая, худенькая, любившая меня без меры (при живых разошедшихся родителях она считала меня сиротой), была и осталась самым светлым человеком в моей жизни. Дед являл собой полную противоположность: огромный, феноменальной силы и, мягко говоря, суровости человек со сломанной судьбой. В двадцать пять лет он вернулся с русско-японской войны кавалером двух Георгиевских крестов и спустя неделю в престольный праздник, в пьяной драке на речке на льду ударами кулаков в головы убил двух молодых парней из соседнего села. Каторгу он отбывал на рудниках под Нерчинском — как рассказывала впоследствии бабушка, первые три года был подземным кандальником, прикованным цепью к тачке. Когда началась мировая война, он, как и многие осужденные, написал прошение царю и был отправлен на фронт, где в 1916 году стал полным Георгиевским кавалером. На родину в Саратовскую губернию он не вернулся и поселился под Москвой. Каторга ему дала многое: он был отменный плотник и кузнец, скоро и добротно ставил избы, клал русские печи и голландки — к нему постоянно обращались из окрестных и дальних деревень. Мне исполнилось, наверно, три года, когда он решил заняться моим трудовым воспитанием. Я должен был постоянно находиться рядом с ним, ловить его команды, подавать ему инструмент, бегать по его поручениям — именно бегать, а не ходить — и сопровождать его, причем и в четыре года, и в десять лет, если меня нечем было нагрузить, чтобы я не бездельничал, он давал мне в качестве поноски свой картуз. Это была весьма суровая школа; когда, к примеру, в четырехлетнем возрасте я, по глупости, сорвал с клумбы в соседском палисаде одну или две розы, дед солдатским ремнем выпорол меня так, что я потерял сознание и потом неделю пролежал на животе. С пяти лет он порол меня систематически, без какой-либо причины и весьма жестоко, чтобы, как он говорил, «добавить ума»; при этом мне категорически запрещалось плакать.
Я рассказываю о своем деде подробно потому, что в детстве, в огромном непонятном еще мире, он был главным для меня человеком и то, что он постоянно, год за годом вбивал в мое сознание, безусловно, осталось и живет в памяти по сей день. Некоторые из его постулатов сегодня, своим языком, я сформулировал бы так:
Ты пришел в эту жизнь, где ты никому не нужен. Не жди милости от людей или от Бога, — тебе никто и ничего не должен! Надейся только на самого себя, вкалывай в поте лица, выживай!
Чем бы ты ни занимался, выкладывайся в отделку. Делай все добросовестно, хорошо и, по возможности, лучше других.
Власть — зло. Держись подальше от начальства! У них своя жизнь, а у тебя своя!
Никогда ни к кому не лезь! Не угодничай, не подлаживайся и никого не бойся. Не давай себя в обиду. Пусть лучше тебя убьют, чем унизят!
В жизни сложилось так, что дед, война и армия, особенно зрелые и пожилые солдаты, сержанты и офицеры — некоторые из них были старше меня на 30 и даже на 35 лет, — оказались в детстве и в юности моими главными учителями, можно сказать, что они меня воспитали и сформировали мой характер и мои убеждения — жажда познания, и в частности чтение книг, овладела мною уже в совершеннолетнем возрасте, точнее, после войны.
В 1936 году, после гибели деда — на строительстве картофелехранилища свалившимся бревном ему перебило позвоночник, — мать взяла меня в Москву. Воспоминания о предвоенной жизни в столице тусклы и безрадостны — в такой бедности, точнее нищете, как в подростковом возрасте, я никогда больше не оказывался. Начало войны я воспринял по недомыслию с мальчишеским оживлением и подъемом. Отправиться в армию меня подбили двое приятелей, оба были старше меня, они и надоумили прибавить себе два года, что сделать при записи добровольцем было просто. Спустя три месяца, в первом же бою, когда залегшую на мерзлом поле роту накрыло залпом немецких минометов, я пожалел об этой инициативе. Оглушенный разрывами, я приподнял голову и увидел влево и чуть впереди бойца, которому осколком пропороло шинель и брюшину; лежа на боку, он безуспешно пытался поместить в живот вывалившиеся на землю кишки. Я стал взглядом искать командиров и обнаружил впереди — по сапогам — лежавшего ничком взводного — у него была снесена затылочная часть черепа. Всего же во взводе одним залпом из 30 человек убило 11. Эта картина живет во мне уже шестое десятилетие — такого страха и ощущения безнадежности, как в эти минуты, я никогда больше не испытывал.
Спустя недели я привык ко всему и тяготы войны и окопной жизни переносил легче многих других. Как с малолетства приучил меня дед, я делал все добросовестно, без промедления выполнял команды и, несмотря на малое образование и возраст, постепенно рос. Я был последовательно рядовым, командиром отделения, помкомвзвода, командиром взвода — стрелкового, автоматчиков, пешей разведки, — в конце войны исполнял должность командира роты. Война, армия и послевоенное офицерство в смысле познания людей и жизни дали мне чрезвычайно много. Я побывал в десятках областей России, Украины и Белоруссии, в Прибалтике, Польше, Германии и Маньчжурии — в сотнях городов и других населенных пунктов. Это был необычайно насыщенный опыт — к примеру, только за лето и осень сорок пятого года мне довелось наблюдать немцев в Германии, китайцев в Маньчжурии, японцев на Южном Сахалине, чукчей и эскимосов на Чукотке.