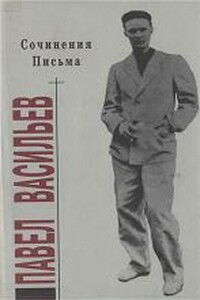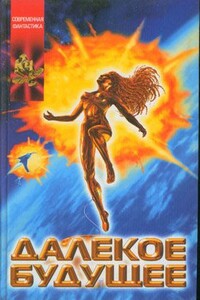Ему дано восстать и победить
Появление в московских литературных кругах Павла Васильева в начале 30-х годов прошлого века было подобно вулканическому извержению. Он входил в писательское сообщество уверенным шагом, с полным осознанием своих сил, готовый на все, чтобы покорять одну вершину за другой, и в то же время готовый каждую секунду огрызнуться, дать отпор, показать, что он значит со своим природным даром и недюжинной внутренней силой в прожженной, циничной атмосфере литераторского угара.
Он притащил с собой в писательский клуб, в салоны и салончики солидный шлейф из сплетен, слухов, намеков, из которых ниточка к ниточке плелась его литературная репутация. В «светском обществе» его встретили настороженно, с чувством, в котором любопытство органически сочеталось с неприятием. Никто не знал, чего можно ожидать от этого буйного, неуправляемого провинциала, поражавшего силой и красотой своих творений.
«Как только ни называли поэта, — писал уже в 1980-е годы Сергей Поделков, — и „сыном кулака“, и „сыном есаула“, и „певцом кондового казачества“, и все, что он создавал, объявлялось идейно порочным, враждебным, „проникнутым реакционным, иногда прямо контрреволюционным смыслом“. А он был на самом деле сыном учителя математики, внуком пильщика и прачки, служивших у павлодарского купца Дерова, и с любовью рисовал мощным поэтическим словом жизнь родного народа, советскую действительность.
Выбросил с балкона С. Алымов пуделя Фельку — собаку артиста Дикого, — приписали П. Васильеву. Написал Е. Забелин пессимистические стихи „Тюрьма, тюрьма, о камень камнем бей…“ — автором объявили П. Васильева. Он любил до самозабвения С. Есенина, называл его „князем песни русския“, знал почти наизусть четырехтомник знаменитого рязанца, боготворил его как учителя, и все равно А. Коваленков измыслил отрицательное отношение П. Васильева к творчеству Есенина и бесстыдно опубликовал клевету.
Правда, он не был ангелом; но если клевещут и травят, разве можно быть им?»
Продолжалась хула не только при жизни поэта, но и после его трагической безвременной гибели. И когда в конце 1980-х годов стали публиковаться сериями неизвестные его стихотворения и воспоминания о нем, эти публикации нередко сопровождались двусмысленными комментариями. В них преимущественно делался акцент на «звериный», «природный», «нутряной», не обогащенный культурой дар и неуправляемый характер Павла Васильева. С точки зрения идеологической тоже все было не так просто. С одной стороны — устойчивое клише: «Выдающийся советский поэт». С другой стороны — такой ли уж советский? Кроме того, личность весьма подозрительная на взгляд нынешних «демократов». Да, репрессирован, да, расстрелян. Да, «жертва сталинизма»… Но прославлял индустриализацию? Прославлял. Писал антикулацкие поэмы? Писал. Репутацию «антисемита» имел? Имел.
Впрочем, поэзия — это одно. Человеческая судьба — другое. Репутация — третье. Но существует уникальный мир, сотворенный в душе и выраженный в поэтических строках. Уникальный мир, оставшийся непонятым современниками, оказавшийся неведомым потомкам, он только-только приоткрывается нам. И потому поэзия Павла Васильева становится все ближе, яснее и, говоря по-казенному, актуальнее для нас, переживающих на рубеже тысячелетий, наверное, самые тяжелые в их изощренности испытания, выпавшие России на протяжении ее истории. Поистине, «большое видится на расстояньи», если вспомнить слова васильевского кумира.
* * *
Павел Васильев родился 23 декабря 1909 года (5 января 1910 года по новому стилю) в г. Зайсане, в семье выходца из казачьей среды и дочери павлодарского купца из крестьян. Это скрещивание казачьего и купеческого сословий многое определило в его дальнейшей судьбе.
Уже под конец своей короткой жизни Васильев встретился в столице со старым знакомым — поэтом Андреем Апдан-Семеновым. Во время скороспелой выпивки, перелистав газетные страницы, где красовались извещения об отказе детей от своих отцов, объявленных врагами народа, сказал своему собеседнику:
— Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюсь да отрекаюсь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионщика, а не учителя из Павлодара.
— Зачем выдумывать басни во вред себе?
— В пику продажным душам! Когда предательство родного отца объявляют героизмом — это уже растление душ. Противно.
«Сын степного прасола-миллионщика» тут же превращался в «сына казачьего есаула», хотя ни то, ни другое не имело никакого отношения к действительности. Более того, сплошь и рядом он сопротивлялся своей собственной памяти, увлекавшей его в материнский дом, в мир буйно цветущего, многокрасочного детства. Старое и новое, прежнее и нынешнее требовали своей дани одновременно. И с этим разладом в душе, при всем своем жгучем желании обрубить концы, связывающие его со старым миром, миром казачьих станиц и казахских аулов, мира деда Кор-нилы Ильича и матери Глафиры Матвеевны, миром притихшего Зайсана и наполненного покоем Павлодара, Васильев, весь принадлежа переломной эпохе 1930-х годов, ничего не мог поделать: