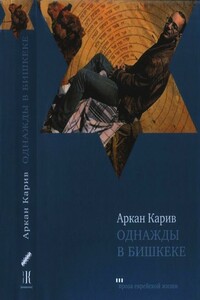Мой младший брат ловит лобстеров в штате Мэн у побережья Атлантического океана. Вообще-то он художник, но зарабатывать на жизнь ему приходится морским промыслом под началом шестнадцатилетнего американского капитана. Иногда мы созваниваемся и подолгу разговариваем по телефону. В основном об искусстве.
Недавно я вспомнил, как брат — ему было тогда лет десять, а мне, стало быть, четырнадцать — проснулся среди ночи, подошел к окну, постоял, глядя на вихрящиеся в свете уличного фонаря осенние листья, и голосом крепкого хозяйственника произнес: «Блядь! Зима наступила. А мы совершенно не готовы!». И вернулся в кровать. Наутро ничего не помнил. Мы посмеялись; повисла ритмически неизбежная пауза, и я напрягся, потому что точно знал, о чем он сейчас, в очередной раз, попросит.
— Аркан, а помнишь… ты хотел написать… ну вот про все про это…
— Про что про это? — строю я дурачка. Но пусть хотя бы ОН назовет. Писать-то все равно мне.
— Ну… про маму, про папу, про весь наш сумасшедший дом, про Джуди. Ты же хотел! Ты обещал! Арканчик, нас же только двое и осталось! Напиши, а?
Есть просьбы, в которых невозможно отказать уже ни под каким предлогом. Особенно брату-художнику, который надрывается в водах Атлантики.
— Хорошо, — говорю я. — Ты прав. Пришло время за базары отвечать. Но ты как художник должен дать мне первую картинку. Фотографию из семейного альбома. С нее я и начну.
И опять я точно знаю, какую фотографию он выберет. И не ошибаюсь.
Два мальчика, вида, приближающегося к ангельскому, в новенькой школьной форме по случаю первого сентября, обнимают, сидя на скамейке, шпицовую дворняжку с нервными дворянскими чертами и кличкой обезьянки из австралийского сериала. Старший щурит правый глаз — генетическая привычка, унаследованная от отца. Младший, стриженный под Стеньку Разина, гладит собачку, а имя ему — прямо нежность. Реснички опущены. Он уже успел с утра нарыдаться, разрывая небо над Теплым Станом воем отчаяния, пока с шарами, смехом и цветами весь микрорайон струился к школе на Праздник Знания. Он также успел уже обозвать свою первую учительницу дурой и принести домой дневник с вызовом родителей в школу. Но и гордиться ему было чем: «Мама! Папа! Нам выдали учебник! Этот… как его… Родная Мать!».
Фотограф — а это мой папа, конечно, — щелкает затвором фотоаппарата «Зенит» и торопится вернуться на работу. Он работает на заводе «Эталон», чинит дериватографы[2]. Мой папа — рабочий, хотя на самом деле он писатель. Только это ужасная тайна, и рассказывать о ней можно немногим. Собственно, все люди в нашем окружении делятся на тех, кто посвящен в эту тайну, и тех, кому рассказывать о ней ни в коем случае нельзя. Но ведь дети — самые гнусные закладушники. Еще в первом классе я сообщил учительнице, что стихи Маяковского для детей плохие, мне папа сказал, а папа это точно знает, потому что он сам пишет стихи. Хорошие. Папиному стыду и горю не было предела, моему — тоже, в придачу к раскаянию. Я плакал в подушку, уткнутую как раз в ту стенку, на которой висела репродукция со знаменитой линогравюры, ставшей эмблемой Театра Маяковского. В этой горькой сцене я безо всякой натяжки усматриваю завязку случившейся через много лет трагедии.
Подушка, которую я сейчас безутешно сопливлю и слюнявлю, выскочит забавным артефактом, когда в четырнадцать лет, лишившись предпоследнего двоюродного дедушки по имени Фимчик, я стану обладателем первого в своей жизни кассетного магнитофона по имени «Весна». Фимчик был братом моего родного дедушки Вольфика, который жил в Кишиневе. А Фимчик жил в Москве и работал скорняком. По тем временам он считался состоятельным человеком. У него была квартира на Цветном бульваре, машина «Победа» и дача на двенадцатой станции Большого Фонтана в Одессе, записанная на Лёнчика — третьего брата. Секрет благосостояния Фимчика заключался в необыкновенной рачительности: даже рваные полиэтиленовые пакеты он не выбрасывал, а, любовно восстановив им с помощью швейной машинки девственность, отправлял обратно на службу людям. И вот такого правильного еврея, в апогее процветания, не пощадила судьба-злодейка. Фимчик был насмерть сбит грузовиком, когда перебегал дорогу, неся в заштопанном пакете кошачьи шкурки на заячьи шапки.
Судебный пристав сунул опытным движением руку под белье на полке платяного шкафа, где, как ключ под ковриком, большинство хитроумных граждан прячет сбережения, и вытащил три глянцевых альбома лучших моделей «Плейбоя». Люди, проявите снисходительность: не надо ржать! 1977 год на дворе. Самым прекрасным из обнаженного в моей жизни была до тех пор репродукция гойевской «Махи», на которой сам собой предательски раскрывался седьмой том БСЭ. Через пару месяцев мой брат тайком вытащил альбомчики на улицу и сменял их у пацанов на черепаху.
Однако главной и легитимной частью доставшегося мне наследства был магнитофон «Весна» и полиэтиленовый — ну да, конечно же, прошитый прямым стежком суровой нитки — пакет с кассетами. Я ожидал услышать записи Эдиты Пьехи и про корнета Оболенского, но жестоко ошибся. Дядя Фимчик с того света повеселил нашу семью последним, необыкновенным концертом. Охая и кряхтя, причмокивая и присапывая, плюгавый еврейский жизнелюб кувыркался с ядреными русскими девками, успевая вворачивать с одышливым акцентом режиссерские ремарки: «Ваг’я! Положи одну руку на г’удь, дугую — на пизду, и ты будешь совсем как Венег’а!».