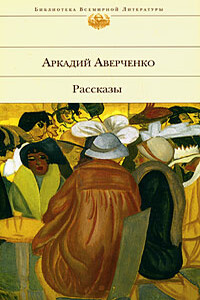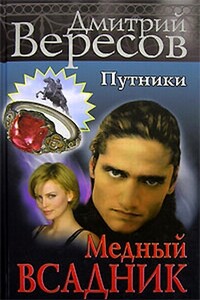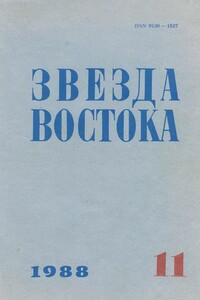Симеон Плюмажев был в этот вечер особенно оживлен…
Придя ко мне, он засмеялся: подмигнул, ударил меня по плечу и вскричал:
— Хорошо жить на свете!
— Почему? равнодушно спросил я.
— А вот Рождество скоро. Каникулы… Отдохнем от думской сутолоки. А вы почему… такой?
— Мне тяжело, вообще. Как вспомню я истязания политических каторжников в Зерентуе и их самоубийство — так сердце задрожит и сожмется.
Он протяжно свистнул.
— Вот-о-но-что… Да ведь это закона не нарушает.
— Что не нарушает?
— Да что их пороли.
— Послушайте, Плюмажев…
Он потонул в мягком кресле и добродушно кивнул головой
— Конечно! Статья закона гласит: «за маловажные преступления и проступки каторжникам полагаются розги не свыше ста ударов». Еще недавно по этой же статье до 1906 года полагалось, кроме розог, наказывать плетьми даже за маловажные поступки. Это отменено, о чем я весьма сожалею…
— Что вы такое говорите, Плюмажев?! Стыдитесь!.. Ведь вы же интеллигентный, культурный человек, член Думы…
— Вот именно, потому я и говорю. Раз человек в чем-нибудь виновен, он должен понести наказание. Под влиянием иудейского страха, под влиянием трусости, позорной трусости, многие начальники тюрем отделяли этих политических каторжников от обыкновенных и не приводили в исполнение, не применяли тех кар, которые закон повелевал применять. К счастью, нашелся в вологодской тюрьме, а также в зерентуйской тюрьме истинный гражданин, истинный человек, исполнитель закона, который в надлежащем случае выпорол надлежащее количество негодяев[1].
— Плюмажев, Плюмажев! — горестно всплеснул я руками. — Кто ослепил вас? Неужели вы не понимаете, что дело государства только обезвредить вредные для него элементы, но не мучить их… не истязать!
— Поррроть! — взвизгнул Плюмажев. — Раз он преступник — нужно его пороть!!
Я встал. Прошелся по комнате.
— Значит, по вашему, всякого преступника нужно пороть?
Плюмажев ответил твердо и значительно.
— Да-с. Всякого.
— Даже такого, который что-нибудь украл, утаил, присвоил?
Плюмажев замялся немного и потом ответил:
— Даже такого.
Я, пожав плечами, молча, позвонил. Вошел слуга.
— Пантелей! Позовите еще Евграфа и дожидайтесь в передней моих приказаний.
— Для чего это он вам? — засмеялся Плюмажев.
Я вынул из ящика письменного стола бумагу и развернул ее перед Плюмажевым.
— Знаете ли вы, Сеня, что это такое?
— Н…нет.
— Это, Сеня, копия с протокола, который составлен на вас за утаивание гербового государственного сбора.
— Ну-ну, — ненатурально засмеялся Плюмажев, — кто старое помянет — тому глаз вон. Порвите эту бумажонку — я вас хорошей сигарой угощу.
— Постойте, Сеня… Вы соглашаетесь с тем, что вы утаиванием гербового сбора обворовывали казну?
— Эко сказал! — засмеялся Плюмажев. — А кто ее нынче не обворовывает?
— Сеня! — торжественно сказал я. — Имели ли вы какое-нибудь наказание за это преступление? Не имели? Так, по долгу справедливости вы его будете иметь, Сеня! Я вас сейчас высеку розгами.
— Фома! — вскричал Плюмажев, как мячик вскакивая с кресла. — Ты не имеешь на это права!!
— Сеня! Я имею право, основываясь на твоих же словах: раз человек преступник — надо его пороть.
— Но ведь это же, вероятно, чертовски больно! Фома! Поедем лучше куда-нибудь в ресторанчик, а? Выпьем бутылочку холодненького…
— Нет, Сеня… как я сказал — так и будет Ты преступник — я тебя и выпорю. Эй, Пантелей, Евграф!..
Едва вошли слуги, как Плюмажев изменил растерянное выражение лица на спокойное, осанистое.
— Здравствуйте братцы, — сказал он. — Мы, вот того… с вашим барином пари подержали: больно ли телесное наказание розгами. Хе-хе. Думаете, небось: «чудят, баре!..» Ну, ладно. Если все хорошо будет, на чай получите…
— Никакого пари мы с ним не держали, — хладнокровно сказал я. — А просто я хочу его высечь за то, что он воровал казенные деньги.
— Thomas! — укоризненно вскричал Плюмажев. — Devant les domestiques…и
— Раздевайтесь, Сеня. Сейчас вы узнаете, приятно ли интеллигентному человеку обращение, за которое вы так ратуете…
— Чудак ты, Фома, — покрутил головой Плюмажев. — Вечно ты такое что-нибудь придумаешь… комичное.
Он снял сюртук, жилет, сорочку, погладил себя по выпуклой груди и сказал:
— Что это, как будто, сыпь у меня? Ветром охватило, что ли?
Я смотрел на этого человека и диву давался: откуда он брал в эту минуту столько солидности, величавости и какой-то ласковой снисходительности.
— Надеюсь, — сказал он внушительно, — это останется между нами?..
Когда слуги положили его на скамью и дали несколько ударов, он солидно откашлялся и заметил:
— А ведь не особенно и больно… Так что-то такое чувствуешь…
Мне показалось все это противным.
— Довольно! — крикнул я и отошел, уткнувшись лицом в угол.
Так стоял я, пока он не оделся. Обернулись мы лицом друг к другу и долго стояли, смотря один на другого.
— Нынче летом, — сказал Плюмажев — видел я в Москве одну девочку итальянку. Актриса с отцом играет. Можете представить: маленькая, а играет как взрослая.
— Очень страдает? — спросил я.
— Что такое?
— Ваше самолюбие. Ведь я вас высек сейчас.
Он солидно засмеялся.
— Шутник! А что, Фома, не найдется у вас стаканчика чаю? Жажда смертельная.