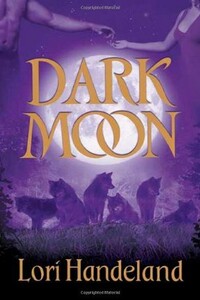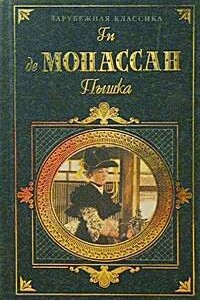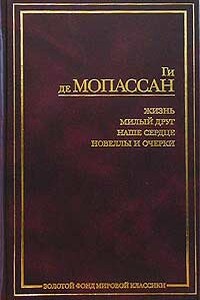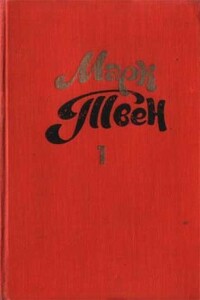1599
Дон Жуан Мольера, разумеется, волокита, но прежде всего он светский человек; раньше чем отдаться непреодолимой страсти, которая влечет его к красивым женщинам, он стремится уподобиться некоему идеальному образцу; он хочет, чтобы им восхищались при дворе молодого короля, галантного и остроумного.
Дон Жуан Моцарта ближе к природе; в нем уже меньше французского духа: он не так озабочен мнением окружающих; он не стремится прежде всего казаться, как барон де Фенест д'Обинье[1]. Мы имеем лишь два портрета итальянского Дон Жуана, того Дон Жуана, который должен был появиться в этой прекрасной стране в XVI веке, в начале эпохи Возрождения.
Я лишен возможности рассказать о первом из них: наш век слишком уж застегнут на все пуговицы; мне вспоминаются меткие слова, которые я не раз слышал из уст лорда Байрона: this age of cant[2]. Это скучное, никого не обманывающее лицемерие имеет лишь то преимущество, что дает возможность и дуракам вставить свое словцо: они, видите ли, шокированы тем, что кто-то осмелился высказать такую-то мысль, а другой позволил себе насмехаться над тем-то и тем-то. Отсюда отрицательная сторона лицемерия — оно крайне суживает область исторического повествования.
С любезного разрешения читателя я осмелюсь предложить ему историческую заметку о втором из этих Дон Жуанов, о котором можно рассказывать в 1835 году; его звали Франческо Ченчи.
В обществе, чуждом лицемерия, Дон Жуан вряд ли мог появиться. В античном мире Дон Жуан не имел бы под собой почвы. Религия была праздником, она призывала людей к наслаждению; так могла ли она клеймить позором тех, кто делает один из видов наслаждения единственной целью своей жизни? В те времена только государственная власть предписывала воздержание; она запрещала то, что могло нанести ущерб отечеству, то есть интересам всего общества, а не то, что вредоносно для отдельных лиц.
Всякий, кто любил женщин и имел много денег, мог быть Дон Жуаном в Афинах. Никто не проповедовал, что наша жизнь — это юдоль слез и что страдание есть заслуга.
Не думаю, чтобы афинский Дон Жуан так скоро дошел до преступления, как Дон Жуан современных монархий. Для последнего немалая доля наслаждения заключается в том, чтобы бросать вызов общественному мнению, и в юности, на первых порах, он воображает, что восстает только против лицемерия.
Нарушение закона в монархии Людовика XV, например, выстрелить в кровельщика и смотреть, как он падает с крыши, служило доказательством того, что вы принадлежите к числу приближенных государя и смеетесь над судьей. Смеяться над судьями — не есть ли это первый этап, первая проба для всякого начинающего Дон Жуана?
Во Франции женщины теперь не в моде, поэтому Дон Жуаны в наше время редкость; но когда они у нас были, они всегда начинали с самых естественных наслаждений, пренебрегая тем, что считали неразумным в религии своих современников; и лишь позже, когда Дон Жуан становится распутником, он находит утонченное удовольствие в том, чтобы преступать те законы, которые он сам в душе считает справедливыми и разумными.
У древних такой переход был бы почти невозможен, и только при римских императорах, после Тиберия и Капреи[3], появляются распутники, которые любят разврат ради разврата, то есть ради удовольствия бросать вызов общепринятым взглядам.
Таким образом, я считаю, что лишь христианская религия придала Дон Жуану нечто сатанинское. Это та самая религия, которая возвестила миру, что бедный раб-гладиатор обладает душой, равной по своим достоинствам и ценности душе самого Цезаря; поэтому мы должны быть ей благодарны за появление гуманных чувств. Нет сомнения, что рано или поздно эти чувства должны были восторжествовать среди народов. «Энеида» уже значительно мягче, чем «Илиада».
Воззрения Иисуса совпадали с воззрениями современных ему арабских философов; единственным новшеством, возникшим в результате принципов, которые проповедовал св. Павел, является сословие священников, отделенное от всех остальных граждан и имеющее даже противоположные им интересы[4].
Это сословие своей единственной задачей поставило развитие и укрепление религиозного чувства; оно создало пышные и таинственные обряды, способные волновать воображение всех слоев общества, начиная от неграмотного пастуха и кончая старым пресыщенным царедворцем; оно сумело связать религию с восхитительными воспоминаниями раннего детства; оно пользовалось каждой эпидемией, каждым народным бедствием, чтобы усилить страх перед богом и воспламенить религиозное чувство или, по крайней мере, построить хорошую церковь, вроде Салуте в Венеции.
Существование этого сословия сделало возможным следующий удивительный факт: папа Лев Святой, не располагая необходимыми силами, все же успешно отразил нападение свирепого Аттилы с его полчищами варваров, устрашавших Китай, Персию и Галлию.
Таким образом, религия, так же как и абсолютизм, ограниченный властью песен[5], иначе говоря — французская монархия, вызвали к жизни примечательные явления, которых, быть может, не существовало бы в мире, если бы не эти две силы.
К этим вещам, хорошим или плохим, но, во всяком случае, любопытным и удивительным, которые вызвали бы изумление Аристотеля, Полибия, Августа и других умов древнего мира, я, не колеблясь, причисляю вполне современный характер Дон Жуана. По моему мнению, это результат